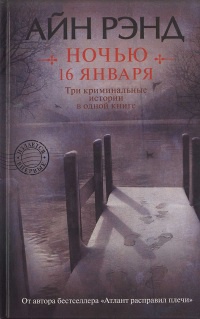За вечер Эллис выпил почти всю бутылку виски, но остался, по крайней мере внешне, весел.
Он постоянно по-хозяйски клал руку мне на плечо или на колено, и мне приходилось бороться с собой, чтобы не отстраняться. Временами я украдкой смотрела на Энгуса, но по его лицу ничего нельзя было понять.
Я дважды ходила на кладбище с тех пор, как увидела его шрамы, и почти убедила себя, что он и был тем Энгусом с надгробия, тем, который потерял все за шесть недель.
Я часто вспоминала, как мы обнялись у огня, и гадала, вспоминает ли он об этом.
Хэнк и Эллис так и не сказали мне, где были, а я не спрашивала. Несмотря на обещание Хэнка наставить Эллиса на путь истинный, они вернулись к прежнему обыкновению: приходить в гостиницу набравшимися, а потом продолжать пить до полного ступора. Судя по тому, что запас Эллиса стремительно сокращался, он вдобавок глотал таблетки. По моим подсчетам, он принимал восемь-десять штук в день.
В тот вечер, когда, как я знала, у него не осталось ни одной, он постучался ко мне и спросил, можно ли ему взять таблетку. Одну он бросил в рот, а еще сколько-то вытряс на ладонь и сунул в карман. Посчитав остаток, я поняла, что забрал он около пятидесяти, чего ему должно было хватить на пять-шесть дней.
Наша жизнь обрела подобие неустойчивой нормальности. Эллис, казалось, совершенно забыл про случай с перчатками и, хоть и был постоянно пьян, никогда не срывался и не впадал в бешенство.
Он каждый день ждал письма от матери, но его все не было и не было. Он начал говорить, что обойдется и без нее, поскольку убедил себя сильнее прежнего, что найдет чудовище и очистит и свое имя, и имя отца, а тогда полковник примет его обратно с распростертыми объятиями и чековой книжкой.
Единственное, что его занимало, это поиски чудовища в озере Лох-Несс. Он знать не знал о чудовище, с которым столкнулся весь остальной мир.
Я стала проглаживать газету утюгом, надеясь, что он или Хэнк начнут ее читать. Но они не начали.
Несомненно, отгораживаться от хаоса и ужаса было и эгоизмом, и трусостью, но временами я почти могла их понять.
В конце января Красная Армия освободила сеть лагерей смерти в польском Аушвице, и подробности, просачивавшиеся в прессу день за днем, были так мучительны, что я боролась с неотступным желанием тоже ничего не знать.
Сотни тысяч людей, а может быть, и много, много больше, сведения были противоречивы, свезли в лагеря и убили, большинство – только за то, что они евреи. Их сгоняли и привозили в лагерь в фургончиках, приговаривая либо к смерти, либо к тяжелому труду, едва они выбирались наружу. Убивали их в газовых камерах, крематории работали день и ночь. Многие из тех, кто избежал немедленной смерти, потом все равно умерли – от болезней, голода, пыток и истощения. Ходили слухи о безумном враче и немыслимых опытах.
Когда в СС поняли, что Красная Армия приближается, то попытались уничтожить улики. Газовые камеры и крематории взорвали, остальные здания подожгли, а потом отступили пешком, вынудив десятки тысяч умиравших от голода заключенных – всех, кто был способен идти – маршировать в глубь территории, оставшейся под нацистами, в другие лагеря смерти. Они оставили в лагерях только тех, кто, на их взгляд, точно был обречен. Многих в ходе отступления застрелили.
Даже закаленные в боях русские солдаты не были готовы к тому, что увидели: 648 трупов, лежавших там, где упали, и больше семи тысяч выживших в таком жутком состоянии, что, несмотря на принятые меры к их спасению, они продолжали умирать.
Выяснилось, что СС сожгли больницу со всеми, кто был в ней – всего 239 человек. В одном из шести складов, который не успели уничтожить, нашли тонны – буквально, тонны – женских волос, а еще человеческие зубы с извлеченными пломбами и десятки тысяч детских вещей.
Я потеряла веру в человечество. Союзники наступали, но я думала, что, возможно, уже поздно и зло уже взяло верх.
Глава 27
Анна согнулась под грузом скорби, а мои дни были по-прежнему пусты, поэтому я по собственной воле расширила поле своей работы по дому, хотя и держалась второго этажа, чтобы меня не поймали.
Я начала мести ковры в спальнях – метлой, похожей на помело ведьмы; оказалось, что она сделана из сухого вереска. А потом, раз уж все равно взялась за метлу, стала мести коридор до лестницы. Не прошло и недели с тех пор, как вернулась Анна, а я уже управлялась со вторым этажом в одиночку: полировала дверные ручки, чистила и заправляла лампы, собирала белье в стирку, перестилала простыни – даже чистила раковину, ванну и туалет порошком «Вим». Мэг при необходимости подновляла мне маникюр, так что ногти мои, пусть и стали короче, были ослепительны как никогда, и Эллис ни о чем не догадывался.
Я набралась смелости и однажды решила подмести лестницу до нижней ступеньки, поскольку там заканчивался ковер. Спохватилась я слишком поздно, услышав, как стучат когти Коналла, и через мгновение столкнулась лицом к лицу с Энгусом. Я стояла на нижней ступеньке – в фартуке, с метлой в руках. И замерла, как олень посреди дороги.
По тому, как внезапно расширились глаза Энгуса, было видно, что он изумлен.
– Добрый день, – сказала я, помолчав пару секунд.
Я старалась держаться так, словно с нами такое случалось каждый день.
Энгус нахмурился:
– И сколько это уже продолжается?
– Какое-то время, – ответила я, чувствуя, как запылали щеки. – Пожалуйста, не вините Анну, это все я придумала. Я просто хотела помочь.
Углы его рта дрогнули, глаза блеснули. Уходя, он рассмеялся, качая головой; за ним последовал явно озадаченный Коналл.
Я плюхнулась на ступеньку. От облегчения закружилась голова.
Я ограничивала свою деятельность вторым этажом только из боязни, что меня увидят, но раз Энгус, судя по всему, не возражал, начала помогать и по кухне. С собой я всегда брала пальто, перчатки и противогаз, на случай, если Эллис и Хэнк рано вернутся; тогда я могла бы выскользнуть в заднюю дверь и зайти через парадную, притворившись, что ходила гулять. Это придумала Мэг, Анна очень возражала. Она твердо была уверена, что выходить через одну дверь, а заходить обратно через другую – к несчастью.
Поначалу пользы от меня почти не было, но училась я с охотой, а Мэг и Анна были со мной терпеливы. Я вскоре выучилась скоблить, а не срезать шкурку с моркови и картошки, научилась нарезать репу кубиками. Памятуя о том, как заварила рассол в первый раз, я научилась правильно солить воду для варки, как нарезать хлеб – и не просто нарезать, а делать это в соответствии с требованиями военного времени: владельцам магазинов не разрешалось продавать какой-либо хлеб, даже стандартный, пока он не зачерствеет достаточно, чтобы его можно было нарезать тонкими ломтиками. Анна подозревала, что национальный стандартный хлеб пекут не из муки, а скорее из молотого корма для скота, и мне казалось, что она, наверное, права. Так многое насчет этого плотного крошащегося хлеба становилось понятнее; его сплошь и рядом звали «Секретным оружием Гитлера». Ходили слухи, что он повышает половое влечение – слухи, которые, как многие предполагали, распространяло само правительство, чтобы заставить население есть национальный стандартный.