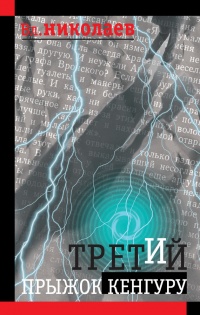В то время я шутила даже чаще, чем обычно, и в кои-то веки носила очки.
– Она похожа на Дарью! [43] – в восторге восклицал мальчик, которого звали Патрик. Он был в отделении, потому что был одержим своей соседкой. – Я знаю, мы с ней всегда будем в жизни друг друга, – безмятежно проговорил он, когда мы сели в круг, а затем ни с того ни с сего вдруг разрыдался. В тот день, когда меня выписывали, он лежал на диване в задней части комнаты рисования, свернувшись калачиком и отвернувшись лицом в стене, раздавленный отчаянием. Прощаться он отказался.
В нем тоже жила своя песня, короткий нестройный припев которой повторялся снова и снова, до тех пор, пока у него уже не было сил его сдерживать. И вот он лежал на диване и трясся.
Когда я вернулась в школу несколько недель спустя, как раз приближалось Рождество, и настало время колядок. Самой приятной частью колядования было посещение череды красивых богатых особняков Сент-Луиса, домов, которые все еще мечтали о прекрасном будущем, в котором Сент-Луис будет крупным городом, где пьют дорогой алкоголь, едят жареные каштаны и носят черные шерстяные пальто, где идет снег и сверкающие снежинки летят на землю, обнявшись со звездами. В ту зиму мне особенно нравилось петь все эти минорные песни: про плющ и остролист, три корабля и три короля, всех птиц, которых я вспомню [44].
Когда мы закончили петь колядки, моя рыжеволосая учительница предложила мне подумать над тем, чтобы вернуться в хор в грядущем году, и меня это предложение так потрясло, что я не смогла ответить. Сердце выпорхнуло у меня из груди алым воробушком, а потом родители сказали, что мы все равно переедем в Цинциннати этим летом. Причин я не знала. Может, дело было в том, что я сделала. Так или иначе, на этом и закончилось мое пение.
Но было уже слишком поздно: оно уже проникло во все уголки моей жизни, оно держало меня на вытянутой струне. Часы на стене отстукивали ритм. «Диез, диез», – подсказывали они, стоило мне открыть рот.
Знаете, мне понадобилось очень много времени, чтобы написать эту главу, потому что я до последнего пыталась сделать ее красивой. В конце концов мне пришлось встряхнуть себя за шиворот, чтобы мое мычание стало более естественным. Нельзя сделать что-то красивым, оно или красивое, или нет.
Из оперных певиц мне больше всего нравилась Мария Каллас, потому что ее голос мог быть откровенно ужасающим. Если Элла Фицджеральд собирала свежайшие сливки, то Мария Каллас – свежайший навоз, из-под всех подряд – гусей, свиней да жаб. Временами она величественно приближалась к мелодичному пению курицы, да так, что казалось, вот-вот закудахчет. В континууме звуков она занимала наиболее далекую от совершенства точку.
«Распахни амбарную дверь у себя на затылке».
Иронично, но каким бы уродливым ни был мой голос, для исполнения уродливых песен он подходил меньше всего. Мне и самой куда больше нравились церковные песни, которые мы с сестрой пели на воскресных мессах, стоя в маленькой нише, полной торжественных красных свечей, которые вы могли купить за доллар, пока мой отец, облаченный в золотые одежды, совершал древний ритуал. На полуночной мессе в канун Рождества он пел вместе с нами «О святая ночь». Его голос было приятно слушать, особенно после пения некоторых священников, которые звучали так, словно из них все соки высосали огромные плотские комары. Не считая моего отца, священники – худшие певцы в мире.
Есть что-то особенно легкое в пении с членами своей семьи – даже у меня это получалось. Самое приятное – это встретиться с родным и близким голосом на одной ноте, после того как вы прогулялись по разным тональностям гимна, и слиться в единое целое. Если вы идеально попали, ваши голоса растворятся друг в друге и на минуту вы перестанете ощущать границы своего «я». Если делать это каждый день, можно потерять себя навсегда, но раз в год на Рождество – не страшно.
Меня учили проглатывать последнюю согласную, чтобы некоторые песни никогда не заканчивались, чтобы они тянулись как шлейф за вами на улицу, на солнечный свет.
Иногда мне кажется, я все еще слышу внутри себя эхо неразрешенных аккордов – и жду, когда же они отзвучат.
Я оставила музыку позади, но музыка навсегда осталась со мной. По вечерам мое тело хочет в оперу. По воскресеньям – устремляется на мессу.
Моя сестра осталась в домашней тональности и никогда не покидала церковь. Она будет вдыхать свежий воздух собора, пока жива, и там же испустит последний вздох, и ее голос будет вечно стремиться ввысь, окруженный ангелами.
Почему мне подобное недоступно? Потому что я пою глубоко в душе, потому что я – писатель.
«Вы всегда должны верить, что жизнь необыкновенна, какой ее и рисует музыка», – сказала Ребекка Уэст. Вы также должны верить, что она высока и низка, и натянута, как струна, и что тишина после нее так же сладка, как и до.
Для меня в том, что написано о музыке – музыки больше, чем в ней самой.
Почему мне никогда не стать певицей? Потому что у меня есть кошка. Кошка – это внешний разум, другой тип мышления, вечно рыщущий в поисках чего-то у тебя дома.
А кому-то достаточно и канарейки.
15. Ты будешь священником во веки веков
Мальчишки такие мальчишки. Впрочем, мужчины тоже мальчишки. Из мальчишек вырастают взрослые мужчины, а потом мужчины становятся священниками. По-хорошему, я должна здесь сослаться на судьбоносную R&B-группу Boyz II Men, но, похоже, не смогу. Ничто не может быть менее похоже на их открытый, мягкий и сладкозвучный стиль, чем этот спектакль во славу безбрачия, свидетелем которого я собираюсь стать.
Во второй половине дня рукоположения мы с мамой бок о бок врываемся в двери собора. Нам предстоит прорваться через цепь рыцарей, чтобы добраться до наших мест. Не помню, к какому ордену они принадлежат, поэтому молча называю их Рыцарями Ордена Распятых Лосей. Похоже, они все участвуют в некоем состязании за звание обладателя самого длинного и пушистого пера. Также они опоясаны мечами, что для такого мирного праздника, мне кажется, уже слишком, но потом я вспоминаю, что меня саму вполне можно считать вражеской лазутчицей. Камуфляж у меня идеальный. Я даже облачилась в белое платье с узором из миленьких цветочков в качестве напоминания, что некоторые люди в этом мире очень даже чисты.
Я контрабандой пронесла с собой блокнот и прячу его вместе с маленьким карандашиком в складках платья на коленях. Я искренне полагаю, что выполняю антропологическую миссию, прямо как Маргарет Мид [45]. Я уже давно поняла, что такой подход делает терпимым почти все. В детстве это могло бы стать моим спасением – вера в то, что меня послали сюда с заданием все замечать и записывать. Это могло превратить мое незначительное существование во что-то полезное, даже выгодное. Но я здесь не затем, чтобы шпионить. Точнее, не совсем за этим. Я здесь, потому что пообещала семинаристу, что приду.