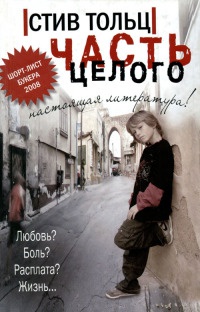Книга Жизнь А. Г. - Вячеслав Ставецкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 53
Авельянеда уже знал, что увидит, когда они свернут на Пласа—Майор, и не ошибся: там, над морем затылков и шляп, на дощатом островке эшафота стояла новенькая, сверкающая лезвием гильотина, машина для рубки человеческих голов, точная копия сиятельной «Торквемады». Вертикальные стойки возвышались над ложем метра на четыре, полуметровый нож — косой, как и полагалось — уже застыл в вышине в ожидании своей первой жатвы. Красные обошлись без фасоли и риса, без причастия в церкви и хора доминиканских монахов, но в этом решили соблюсти церемонию до конца. Что ж, нельзя было, по крайней мере, не признать, что они весьма последовательно проводили в жизнь свое понимание справедливости.
Площадь была запружена до отказа, до крайнего предела вместимости, так что избыток народа переходил почти уже в давку и если не становился ею, то лишь благодаря грозному, величавому терпению, которое пришедшие проявляли, дожидаясь виновника торжества. Непонятно было, каким образом дюжие фалангисты удерживали от натиска тел узкий проход, ведущий от улицы Сьюдад—Родриго, по которой въехала повозка, к зажатому толпой эшафоту. Люди сидели на балконах, карнизах и уличных фонарях, они свисали гроздьями с лепных выступов зданий и статуй в нишах, иные возвышались над толпой, оседлав более высоких товарищей. Тела десятков тысяч пришедших излучали жар, способный поспорить с жаром восходящего солнца.
Прямоугольная выемка на крыше Каса–де–ла-Панадерия, где находился зенитный расчет республиканцев, была заделана, поверх черепичного ската также сидели зрители. Основания башенок были задрапированы полотнищами с эмблемой Красной Фаланги — такими же в точности, что и на башнях Каса–де–ла-Карнисерия. Кресты на зданиях остались нетронутыми, а вот статуя Филипа III исчезла — на ее месте, собственно, и стоял эшафот, утлый дощатый челн с мачтой гильотины посреди, от которой на публику ложилась узкая, двуединая, слегка деформированная тень.
Когда повозка въехала на площадь, по толпе прокатился легкий гул, который волнообразно достиг ее окраин и по инерции выплеснулся в проулки. Гул, однако, сразу затих, и было слышно только, как тысячи дыханий повернулись от Каса–де–ла-Панадерия к улице Сьюдад—Родриго. С этой секунды, как показалось Авельянеде, ослам уже не требовалось усилия, чтобы катить повозку вперед — подобно лодке, она двигалась под напором человеческих взглядов, при этом сам он выступал в качестве паруса.
У эшафота повозка остановилась, и фалангисты, спрятав свои книжки, помогли ему спуститься на мостовую.
— Запомни: Педро Кальдерон, — шепнул он белобрысому. — «Сонеты». Изысканная вещь!
Тот недовольно нахмурился, но снова промолчал: момент, что ни говори, был слишком ответственный.
Помочь себе взойти на помост Авельянеда, впрочем, не дал. Застегнув верхнюю пуговицу кителя, он отстранил конвоиров и, стараясь держаться как можно более прямо, шагнул наверх, туда, где блестела всеми своими винтами взведенная гильотина. Эта штука вот–вот должна была отправить его к звездам. То была простейшая модель космического корабля: дерево, нержавеющая сталь, ремни для крепления пилота. Вид ее пока не вызывал в нем ни малейшего опасения — скорее любопытство, но уже вполне физиологического свойства.
За гильотиной стоял тщедушный палач — лопоухий парень в простой крестьянской рубахе навыпуск и сильно выгоревших на солнце подвернутых штанах, из которых торчали босые белые ступни. Авельянеда поразился его молодости — упругое, глянцевое, лишенное растительности лицо палача не так давно познакомилось с бритвой. Очевидно, по замыслу организаторов он должен был символизировать «молодую Испанию приносящую на алтарь Революции пороки прошлого» или что–нибудь в этом духе. Увидев свою жертву, он улыбнулся — не плотоядной ухмылкой опытного декапитатора, жаждущего поскорее оттяпать голову тирану, а робко, почти боязливо, будто извиняясь. Не похоже было, что паренек в восторге от возложенной на него почетной обязанности. Быть может, он находился здесь не по своей воле, а в наказание за что–то или даже — кто знает? — выиграв эту роль в специальную лотерею у себя в деревне, лотерею, от которой нельзя было отказаться. Собственно, окажись на помосте кто–нибудь еще, Авельянеда ни за что не принял бы этого подростка за палача — разве что за помощника или кого–нибудь из обслуги. Но сцена была пуста, да и особого рода замешательство, с которым парень поглядывал на спусковой рычаг гильотины, не оставляло сомнений в том, кто именно уже совсем скоро потянет за этот рычаг.
Авельянеда вступал на эшафот в уверенности, что затаившаяся толпа только и ждет этой минуты, чтобы, наконец, обрушить на него свой неистовый гнев, выплеснуть к его ногам звериную ярость, которая все эти дни копилась в их глотках под воздействием фалангистской пропаганды. Он полагал, что в смерть его будут провожать именами погибших сыновей и отцов, и что каждый приложит все усилия для того, чтобы в последнюю секунду своей жизни он слышал это имя, чтобы оно разрывало ему барабанные перепонки до тех пор, пока сознание его будет способно воспринимать хоть какой–нибудь звук. Когда–то, много лет назад, его уже встречали так, и было естественно думать, что теперь этот круг замкнется. Но ничего подобного не произошло. Напротив, когда он, не без некоторого усилия, одолел верхнюю ступеньку, тишина только уплотнилась. Она словно села, как садится на солнце выстиранное белье. Несколько озадаченный, Авельянеда окинул взглядом стоящих. На площади было много рабочих, фронтовиков с автоматами за спиной — испитые, загорелые лица, в эту минуту необычайно похожие друг на друга. Вопреки ожиданию, он не увидел на балконах фалангистское руководство — во всяком случае, ни одна начальственная фигура в мундире не попалась ему на глаза. Там, на почетных местах, сидели крестьянского вида старухи на пышных перинах и соломенных тюфяках, привезенных, конечно, из дому, и, подперев щеки морщинистыми руками, задумчиво и даже как будто скорбно взирали на своего бывшего каудильо. Вся площадь смотрела на него так, как, должно быть, и следовало смотреть на убийцу, но губы людей оставались сомкнутыми, ни по одному лицу не блуждала насмешливая гримаса. Авельянеда был взволнован. Только сейчас он понял, что замысел красных, быть может, вовсе не удался — никакого народного аутодафе с коллективным освистыванием тирана не получилось. Не с Фалангой — это была его очная ставка не с Фалангой, потому что каждый из них, он ясно видел это, пришел сюда от своего лица. Они больше не были стаей гончих, которым достаточно крикнуть «Ату его!», чтобы на голову осужденного привычно посыпались проклятия и плевки. Невзгоды изменили их, изменили к лучшему, сделали грубее и тверже, и, несмотря на свою многолетнюю тяжбу с ними, тяжбу, которая обещала не закончиться никогда, Авельянеда порадовался этой перемене, потому что и здесь, в полушаге от вечности, продолжал оставаться одним из них.
Разглядывая народ, он не заметил, как на помост взошел высокий фалангистский полковник с красной папкой в руках и начал зачитывать приговор. Он читал на удивление громко, как заправский глашатай, так что названия провинций и городов, где осужденный совершил свои ужасные злодеяния, разносились во все концы площади, врывались в открытые окна, сбивали пыль с карнизов и балюстрад. Авельянеда, впрочем, не слышал и половины слов, поскольку загляделся на круглолицего старика, стоящего в нескольких шагах от пьедестала. Блуждая взглядом по толпе, он поначалу пропустил это неброское и в то же время смутно–знакомое лицо, но минуту спустя приметил его снова. Что–то блеснуло в памяти — лишь с самого краю, неярко — но тут же погасло, и взгляд продолжил свое блуждание. Однако в третий раз он, наконец, узнал его, и это внезапное, хотя, может быть, вовсе не обязательное узнавание ненадолго отодвинуло в сторону и гильотину, и эшафот. Там, среди суровых мадридских пролетариев и потрепанных боями фалангистов, в мятой выцветшей куртке, сморщенный и почти лысый стоял генерал Эмилио Пенья, его закадычный предатель и вечный боевой товарищ, некогда, в марокканской пустыне, деливший с Авельянедой прокаленную солнцем палатку и последний глоток вонючего кофе, сваренного из гнилой воды, а много позже, в Сьерра—Неваде, бросивший в студеное андалузское утро те беспощадные, все разрывающие слова. «Солдаты устали, мой генерал», — улыбаясь, ответил Пенья, и затравленная пехота за его спиной, не сговариваясь, теснее сомкнула свои ряды. Позади белел заснеженный Муласен, прохладный ветерок обдувал грязные солдатские шеи. Он и сейчас улыбался, но уже совсем другой, виноватой улыбкой, шутовским оскалом старости, в котором недоставало доброй половины зубов, боясь и вместе с тем страстно желая привлечь к себе внимание осужденного. Заплывая жизнью, лицо генерала успело несколько затуманиться в памяти Авельянеды, но те слова никогда не зарастали в его душе. Пощаженный республиканцами, Пенья за все эти годы мог явиться не раз, выбрать для встречи любую из площадей, где останавливался черный тюремный «Паккард». Авельянеда, впрочем, не сомневался, что тот никогда не сделает этого (как не сделал бы, конечно, и сам, выпади ему такая звезда), и был тем более удивлен, увидев генерала сейчас, когда подобная встреча имела менее всего смысла. Бог знает, зачем он пожаловал — для того ли, чтобы получить запоздалое прощение, или же просто поддержать, улыбаясь вот так из толпы. Возможно, он не знал этого и сам, но что бы ни означала его улыбка, Авельянеда оставил ее без ответа. Не потому, что не прощал (для этого прошло достаточно времени), а потому, что, глядя на генерала, был поражен неприятной мыслью: ведь если он такая же старая развалина, как и Пенья, ему точно пора под остро отточенный нож.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 53
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Жизнь А. Г. - Вячеслав Ставецкий», после закрытия браузера.