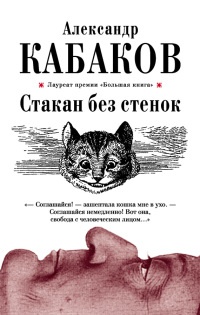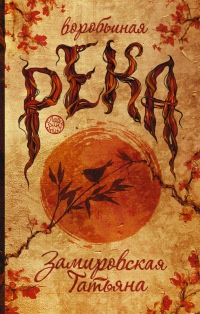Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 116
Колокольня отбила опять четверть часа, я наклонился вперед:
– Мамаша, да скоро откроют?
– Вот отец Иосиф придет…
– С книжками?
Мамаша обернулась, придерживая ладонями щеки: одну фиолетовую, другую – забинтованную:
– Это очередь бесов изгонять.
Я сбежал. Но тут же вернулся.
– И всех желающих принимает?
– Всех. Ну, кто чувствует… Что есть.
Есть? Нет-нет. То есть: вообще ничего нет.
Богу молиться учила Византия, Царьград. В русских небесах просияли греческие святые – полчища, большевики гоготали: семь праздников на дню, когда пахать? У греков ветры теплые, виноград, оливы, смоквы, не много надо – империя издыхала. В святые там брали широко: прославленных по смерти и при жизни, сидевших на полагавшемся лишь святом троне, пострадавших, хотя и не до смерти. Русская земля страшней. Под гнетом смерти, кряхтя, ставили лишь на златые ступени: оставляли лишь чудотворцев явных при жизни. В знаменитом труде профессора Е. Голубинского Сергий Радонежский «стоит» двадцать третьим по счету – почти за пятьсот лет! Народ удостаивал себя не попусту. Стыдясь ига: с 1326 года по 1447-й вообще ни едина душа не канонизирована.
И Сергий «освятился» не волей собора – «сам собой». Уже при жизни писали – «святой». И чтили посмертно, сразу. И житие Епифаний Премудрый писал, не дожидаясь обретения нетленных мощей. И что спустя полвека объявили «общерусским» печатно – так лишь порядка ради, за ним хлынули святые имена, но, по сердечному счету, он – первый.
Куда ж я бегу, не касаясь Божьих дел? Ну да, хочу увидеть лицо, пойдемте. Мощи открылись, через немногое время – года два? – великий князь Василий Дмитриевич подарил монастырю покров на мощи. Вышитый шелком портрет святого. Прежде шитья писал иконописец, и его «Сергий» – самый древний. Не забытый и бесплотный. Мастер мог видеть преподобного, и были живы ученики его, могли пихнуть в бок: разве такой? Наверное, и раньше писались иконы – не мог Андрей Рублев не писать отца своей «Троицы», застав его, Сергия, закат, бок о бок всю жизнь проведя среди его ближайших учеников, – обязательно писал, да не все перешагивает пожары, тоску и тлен, – а покров спасся. И в прежней ризнице, на втором этаже, в хранилище награбленного государством, я перешагиваю через ноги дежурных старушек, дремлющих на стульях, как кочевники в седлах…
Вот – в небогатых цветах моей Родины, медном закатном отсвете сосновой коры, голубой проточной сини меж распластанных, как шестикрылые серафимы, цветков, я вижу резкий, почти звериный скуластый лик. Большие, словно раздавленные, уши. Линия лба, заостренная вверх, – как шлем, купол церкви. Нос – долгий и тонкий. Едва заметный наклон к левому плечу. Широкая разбитая ладонь плотника, огородника, водоноса. И переломленные вниз, к переносице, глаза. Разные: левый от зрителя – сухая птичья зоркость. Правый: большой, скорбящий, со слезой. Облик. Облак. Князья писали грамоты в Царьград: «Облак печали, покрывши мои очи». Сергий Радонежский. Товарищи, переходим в следующий зал! Товарищи.
Пало на холм сорочье перо, дурман-трава, тучи и солнце, Господь и тьма могильной стены – вот краски монастыря. И ты вздыхаешь без привязи дней у румяных боков надвратной церкви, – полдень; у льда голубой колокольни – утро; под грозовой синью куполов Успенского и Троицкого соборов пасмурного русского неба; у пятнистой пышно-узорчатой ризницы, облепленной виноградными листьями да кистями: не зреет у нас виноград. И Господь для русских людей жил в раю с теплыми морями, в полузабвенном детстве, в хохочуще-отчаянных сказках, где родное не в конце «и я там был…», а в зачине: идет свинья с малыми детками-поросятками по лесу, а навстречу ей серый волк: «Сейчас съем тебя и твоих поросят!» – «Не ешь нас, серый волк», – взмолилась свинья, а он: «Как смеешь грубить, свиная харя?!» – все родное. Сергия – лучше бы в сказку, на кисельные берега, да вот тянутся все к Троицкому собору – и мне надо туда. Посмотреть на то, что держит. На мощь. Посмотреть на то, что осталось. На мощи. Если смогу.
Я побрел кругом Троицкого собора, вдоль стен, вокруг монастыря: чего страшного – глянуть на мощи? Хотя: что такое мощи? Кости? Скелет лежит? Коробка? Ларец? Из детских безбожных глубин упрямо лезут куриные косточки в маслянистых остатках лапши.
Как это действует? Как волна: действует…
Часто действует даже явная дрянь: я споткнулся у монастырских ворот – «Кормить голубей в строго отведенном месте!» и стрелка – «Место кормления» – и далее, по стрелке, я нашел земляную выклеванную площадку, похожую на маленький плац; там сидела одна черная по брови старуха, грузная, как надгробие, и дочищала огромные корки хлеба. Дурно и кисло пахло скотным двором, и кругом не было ни единой птицы – я почти побежал оттуда, под гору, искать речку, вымоленную из земли Сергием.
«Как отстоит восток от запада, так трудно постигнуть жизнь блаженного» – и не берусь, «имена которых на небесах Богом написаны, нет надобности в писаниях… людских». Но гляжу на лакированных матрешек, на продажные пуховые платки. Открываю двери за кольцо. Дурею на винтовой лестнице, подымаясь на башню за тарахтеньем испанской речи, – как уверовать в смертного, как я, одолевшего «смерти ско-рии»? На башне постоял, помялся, испанки умелись, и взгляд оторвался от луж, железных люков, автобусной базарной братии, развалин, огородов, заборов, дач. Дальше – холмы, поля, небо… И я вдруг, точно кожей, поверил, что все это было здесь, так и было, сюда пришел, «вся узы миръскаго житиа растьрзав», эта древняя пустошь напитала иконы непонятным полетом, парением – люди немеют… Змеи шипят: «В образе Богоматери выразилась безысходность мироощущения своего времени», а иконы темнели, тонули от нас, прикрываясь доступным убогим: златыми полями, венцами, цатами, золочеными ризами, изумрудами и сапфирами, оставляя открытыми лишь лики, да и те, потускнев, укрывались черным бархатом – так мы продались и обезлюдили.
Идол в мозолях от касаний, а герои не рождаются вновь – для каждого, нетронутыми, для нашей любви. Мы – на развалинах; не сыскать, где стояла кроватка, прячь голову от уставшего жить кирпича.
Согнул голову и пошел в Троицкий собор – мимо торговой лавки, дремлющих на скамьях увечных, налево – меж двух колонн. Прижался к левой, где икона Богоматери. За спиной собиралась и текла передо мной, минуя алтарь, степенная очередь. Там, за огненным озером свечей, увешенная лампадами, сверкает стальным блеском рака – гроб, под гнутой крышей на высоких узорчатых колоннах. Я подумал про мавзолей – ни разу не был. Священник стоял сбоку гроба, наверное, «в головах», спиной ко входу, и, откашливаясь, читал молитву, одновременно разбирая ворох записок в руке. Люди ставили свечи, крестились, опускались на колени и, главное, наклонялись и целовали гроб, сверху, затем уходили, отдав священнику записку, – мне не было видно, что же они целуют: стекло? глухую крышку? В темени пятиярусный иконостас, писанный с участием Андрея Рублева и Даниила Черного, вовсе не сиял – как на хвалебных открытках. Я пытался разглядеть евангелистов на царских вратах (подлинник украден государством), потом тупо щурился на «Троицу» (подлинник украден государством), пересчитал апостолов на иконостасе и тронул пальцами бархатный барьер, отделивший меня от очереди. Священник сделал перерыв в молитве, и женщины в платочках неожиданно запели в углу «Радуйся, Сергие» – на мотив, близкий какой-то революционной песне. Иностранки трясли непокрытыми космами, одна старушка просто лежала у гроба, не подымаясь, семинарист стоял камнем. Петь перестали, и из-за спины меня царапнул шепот: «Господи, послушай…» Неловко оглянулся, будто поправить ворот, – женщина смотрела через меня на что-то ей отвечающее и шептала негромко про свою семью, про сына – его тянет «к технике», у нее мужа нет, есть «один человек», а вот еще на работе… И она повторяла, упрашивая: «Я так хочу, Господи», несколько раз, чтобы он понял, что в первую очередь. И улыбалась.
Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 116