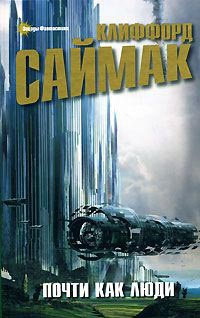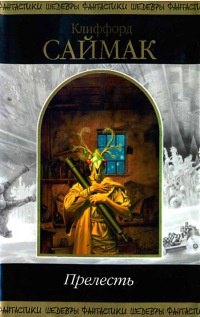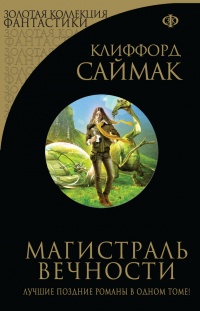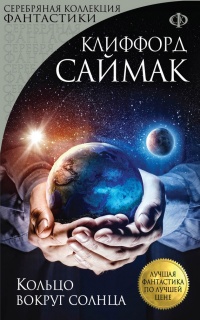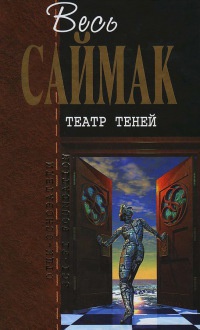Никто не скажет точно, как и когда это произошло, но настал день, и все поняли, что небольшое, зародившееся в 1964 году движение стало наиболее масштабным за всю историю человечества — во всех отношениях. Хотя бы по влиянию, которое оно оказывало на людей, уверенных уже не только в смысле самой программы, но и в успехе предприятия. Движение было массовое, если учесть миллиарды замороженных, которые ожидали воскрешения, и, возможно, самое крупное по своему финансовому могуществу, ибо все замороженные отдали свои деньги на хранение в Нетленный Центр. Итак, в один прекрасный день мир проснулся и обнаружил, что Нетленный Центр стал крупнейшим акционером планеты и подчинил себе разнообразные индустрии.
Тогда только, слишком поздно, правительства осознали, что ничего уже не могут поделать с Нетленным Центром — при всем своем желании. Любая попытка ограничить деятельность Центра — что-либо запретить ему, ввести контроль — стала теперь бессмысленной; он сконцентрировал в своих руках огромный капитал, и общественное мнение было на его стороне.
Сопротивления практически не возникало, и могущество Центра продолжало расти. И вот сегодня, размышлял Фрост, он сделался мировым правительством, финансовой опорой планеты и единственной надеждой человечества. Но надеждой, за которую заплачено с лихвой, — она превратила людей в скаред, понуро тянувших свою лямку.
Фрост привык обходиться без молока, которое любил, и весь его ленч — два тоненьких бутерброда в бумажном пакете. И это ради того, чтобы каждую неделю откладывать большую часть заработка в Нетленный Центр, с тем чтобы капитал продолжал расти и тогда, когда он, бездыханный, окажется в подвале. Его комната убога, он питается всякой дешевой дрянью и ни разу в жизни не был женат. Зато капитал растет с каждой неделей. Вся жизнь сосредоточилась на величине счета.
А сегодня он был готов продать весь Центр с потрохами за четверть миллиона — самому ему столько не отложить и за всю жизнь. И он пошел бы на это, если бы не боязнь возможной ловушки. Но была ли ловушка?
Если провокация, то с какой целью? Что же такое стряслось, что Маркус Эплтон сделался его врагом?
Из-за попавшей к Фросту бумаги? Да что же в ней такого, что его нужно угробить, пока он не успел пустить ее в ход? Конечно, каждому понятно, если бумага важная, то тот, к кому она попала, не замедлит использовать ее себе во благо.
Он сунул листок в стол, а сегодня его там нет. Но если они забрали документ, то зачем им…
Стоп! Положил ли он бумагу в стол? Или второпях засунул в карман?
Фрост откинулся в кресле и попытался вспомнить, но ясность не приходила. В карман или в стол? Или в корзину для мусора? Не вспомнить.
Если он положил ее в карман, то… она здесь! Хотя нет, бумага могла попасть в карман другого костюма, но вряд ли, тот костюм он отутюжил неделю назад и повесил в шкаф. Значит, он вычищал карманы и все, что там обнаружил, сунул в ящик комода, чтобы потом рассортировать.
Тогда бумага еще у него. В ящике комода.
И если так, то документ еще не поздно использовать против Эплтона и Лэйна.
Он встал и подошел к комоду.
Рывком выдвинул ящик: да, вот эта кучка бумаг…
Затаив дыхание, он принялся их перебирать.
Вдруг раздался резкий стук в дверь. Фрост обернулся и замер — никто никогда не стучал в его дверь, никто никогда к нему не приходил.
Он запихал бумаги во внутренний карман пиджака и задвинул ящик.
Стук повторился более настойчиво.
Глава 11
«Всего доброго, пастор, — сказал человек, — Всего доброго и спасибо за заботу». Испуганный, неуверенный человек приходил в поисках утешения и ушел несолоно хлебавши.
Ко мне обратились за помощью, вздохнул Никлое Найт, впервые за столько лет ко мне обратился за помощью человек, а я обманул его ожидания, ибо не было у меня надежды, которую я мог бы передать другому.
Это же так просто, понурился Найт. Так просто наделять людей уверенностью. Кому-то, но не ему. Ему и самому ее не хватает.
Сгорбившись, он сидел за столом, свет маленькой лампочки отражался в полированной столешнице. Казалось, прошло уже немало времени. Одна мысль не давала ему покоя: он обманул ожидания человека — единственного, кому потребовалось его участие. Он обманул его, потому что сам был пуст, как весь этот мир. Он проповедовал веру, которой не имел. Он лицемерил, рассуждая о бессмертии духа, а сам не мог отречься от бессмертия тела, обещанного Нетленным Центром.
Церковь — не только храм, церковь олицетворяла собой нечто большее, объединяющее всех людей. Ее отцы могли в чем-то ошибаться, но с незапамятных времен — с колдунов в джунглях, с человеческих жертвоприношений в священных рощах — церковь оставалась неподвластной человеческому разумению. Она символизировала тайну жизни, духовный экстаз и ослепительный свет разума.
Но те времена прошли, сказал себе Найт. Церковь не может быть выше своих слуг. Сегодня уже никто не посвящает себя ей полностью, нет теперь готовых на муки, сильных в вере. Осталась лишь угасающая привычка.
Когда бы человек мог молиться, думал Найт, не словами (слова — лишь ритуал), а сердцем!
Он тяжело вздохнул, нащупал в кармане сутаны четки, достал их и положил перед собой на стол. Деревянные бусины были отполированы прикосновениями многих рук, тускло блестело металлическое распятие.
Люди еще молятся с четками — он знал, — но все реже и реже. Даже единственная, сохранившая еще остатки былого влияния Римская церковь близка к полному упадку, большинство людей если и посещает богослужения, то в Новой церкви, выхолощенном подобии того, что было когда-то храмом.
Раньше была вера, вздохнул Найт. Слепая, неосознанная вера.
Четки достались ему от предков, прошли сквозь поколения, и он припомнил связанную с ними историю — какая-то его прабабка, жившая в маленькой европейской деревеньке, как-то отправилась в церковь. Внезапно хлынул ливень. Укрывшись от дождя в первом попавшемся доме, она кинула четки на двор, повелев дождю перестать. И дождь прекратился, и выглянуло солнце. До самой смерти она была убеждена, что именно четки прекратили ливень. И все остальные — после ее смерти — пересказывали эту историю, искренне веря в ее истинность.
Конечно, опять вздохнул Найт, это только красивая выдумка, но все же… Ему бы хоть часть такой веры, и он помог бы приходившему, единственному из тысяч, кому потребовалась вера.
Почему же он один ощутил необходимость в истинной вере? Какой психический механизм, какое чувство побудило его?
Он попытался вспомнить лицо этого человека: чуть расширенные от страха глаза, копна буйных волос, выступающие скулы. Лицо вроде бы знакомое, или настолько обычное, что кажется знакомым? Да нет же! Вот оно — глядит на него с первой полосы сегодняшней газеты. У человека, простонал Найт, чьи надежды он обманул, на всем свете не осталось ничего, кроме веры! Этот человек, ушедший от него без ничего, потерявший последнюю надежду — а он, несомненно, утратил ее, — был не кто иной, как Франклин Чэпмэн.