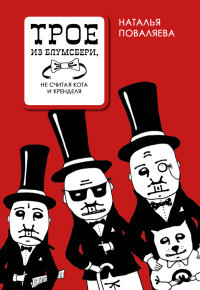экономии — всегда совершенный вздор, за одним-единственным исключением.
Мистер Мак-Мусс:
— Ценю учтивость, с какою ваше сиятельство исключаете присутствующих. Но меня не стоит исключать. Положа руку на сердце, я сам довольно нес дичи об этом предмете.
Лорд Сом:
— Ну, и очистка Темзы тоже немало весит.
Преподобный отец Опимиан:
— Не будем преуменьшать тяжести двух только что названных предметов, но оба, и вместе взятые, легко перевесят конкурсные экзамены — сей новейший дар чужеземный образованию нашему.
Лорд Сом:
— Прежде при распределении должностей думали лишь о том, хорошо ли место для человека, но не о том, хорош ли человек для места. Пришла пора с этим покончить.
Преподобный отец Опимиан:
— Так-то оно так. Да только вот
Dum vitant stulti vitium, in contraria currunt[400].
Вопросы, на которые ответить можно лишь усилием памяти, до тошноты и несварения напичканной самой разнообразной снедью, не могут быть поверкой таланта, вкуса, здравого смысла, ни сметливости ума. «Лучше многое знать плохо, чем хоть одно знать хорошо», иными словами: «Лучше наловчиться болтать обо всем, чем хотя бы что-нибудь разуметь» — вот девиз конкурсных экзаменов. Эдак не научишься соображать, из какого дерева сделан Меркурий[401]. Мне говорили, будто бесценную эту моду вывезли мы из Китая; слов нет, добрый источник политического и нравственного усовершенствования. И ежели так, скажу вслед за Петронием: «Лишь недавно это надутое пустое многоречие прокралось в Афины из Азии и, как словно вредоносная звезда, наслало заразу, овладевшую умами молодежи, стремящейся к возвышенному»[402] [403].
Лорд Сом:
— Но можно привести кое-какие доводы в пользу того, что одни и те же испытания применяются ко всем, всем задаются одни и те же вопросы.
Преподобный отец Опимиан:
— Счастлив буду услышать, какие же это доводы.
Лорд Сом (помолчав немного):
— А уж этого, как говорит второй могильщик в «Гамлете», «не могу знать»[404].
И взрыв хохота заключил разговор.
ГЛАВА XX
АЛДЖЕРНОН И МОРГАНА. ЛЕС ЗИМНЕЮ ПОРОЙ
Les violences qu'on se fait pour s'empecher d'aimer sont
souvent plus cruelles que les rigueurs de ce qu on aime.
La Rochefoucauld[405][406].
Зима наступила рано. Декабрь начался сильными морозами. Мистер Принс, раз вечером зайдя в малую гостиную, застал там мисс Грилл одну. Она читала и при появлении его отложила книгу. Он высказал надежду, что не помешал приятным ее занятиям. «Соблюдая тон романтический»[407], передаем дальнейший разговор, означая собеседников попросту по именам.
Моргана:
— Нет, ничего, я уж в сотый раз это перечитываю: «Влюбленный Роланд». Сейчас идет место о волшебнице, в честь которой я названа. Вы же знаете, в этом доме царят волшебницы.
Алджернон:
— Да, Цирцея, и Грилл, и ваше имя ясно о том свидетельствуют. Впрочем, не только имя, но... простите, нельзя ли мне самому взглянуть, или, еще лучше, может быть, вы бы мне вслух почитали?
Моргана:
— Это про то, как Роланд оставил Моргану, спящую у ручья, и вот возвращается за волшебным локоном, с помощью которого только и может он выручить своих друзей.
Il Conte, che d'intrare havea gran voglio,
Subitamente al fonte ritornava:
Quivi tro'vo Morgana, che con gioglia
Danzava intorno, e danzando cantava.
Ne piu leggier si move al vento foglia
Corne ella sanza sosta si voltava,
Mirando hora a la terra ed hora al sole;
Ed al suo canto usava tal parole:
«Qualonque cerca el monde baver thesoro,
Over diletto, о seque onore e stato,
Ponga la mano a questa chioma d'oro,
Ch'io porto in fronte, e quel faro beato.
Ma quando ha il destro a far cotai lavoro,
Non prenda indugio, che'l tempo passato
Piu non ritorna, e non si trova mai;
Ed io mi volto, e lui lascio con guai».
Cosi cantava d'intorno girando
La bella Fata a quella fresca fonte:
Ma corne gionto vide li Conte Orlando,
Subitamente rivolto la fronte:
II prato e la fontana abbadonando,
Prese il viaggio suo verso d'un monte,
Quai chiudea la Valletta picciolina:
Quivi f uggendo Morgana cammina[408][409].
Алджернон:
— Я хорошо помню это место. Как прекрасна Fata, когда она поет и танцует у ручья.
Моргана:
— Ну, а потом Роланд, не сумев завладеть золотым локоном, покуда она спала, долго и тщетно гоняется за нею средь пустынных скал, его подхлестывает La Penitenza[410]. Ту же мысль потом счастливо развил Макиавелли в своем Capitolio dell'Occasione[411].
Алджернон:
— Так вы любите итальянцев? Выговор у вас превосходный. И, я вижу, вы читаете по оригиналу, не по rifacciamento[412] Берни[413].
Моргана:
— Я предпочитаю ему оригинал. Он проще и серьезней. Живость Берни прелестна, отступления его пленительны; и во многих случаях он плодил неловкости. И все же, мне кажется, он проигрывает в сравнении с оригиналом в том, что по мне составляет главные очарования искусства — в правдивости и простоте. И самая старинность слога более пристала предмету. И Боярд, кажется, сам искренней верит своему рассказу. За ним я следую с полной убежденностью, а шаловливость Берни вселяет сомненья.
Алджернон:
— Выходит по-вашему, поэт, как бы дик и причудлив ни был его вымысел, сам должен верить ему безусловно.
Моргана:
— Так мне кажется; да и всякий сочинитель, не только поэт. Как безжизненна и суха история Древнего Рима, изложенная человеком, который не верит ничему из того, во что верили римляне. Религия проникает всю римскую древность; и до самой империи. Но коль скоро их религия иная, чем у нас, мы все сверхъестественное у них обходим молением либо отвергаем с презрительным недоверием. Мы не отводим ему должного места, жалеем на него необходимых красок[414]. Оттого-то я люблю читать Ливия и вовсе не люблю читать Нибура[415].
Алджернон:
— Осмелюсь заключить, вы знаете и по-латыни?
Моргана:
— Довольно, чтобы наслаждаться, читая латинских авторов. После этого признанья вы, верно, уже не станете удивляться, почему я сижу в девушках.
Алджернон:
— В известном смысле; мне только делается еще более понятна разборчивость