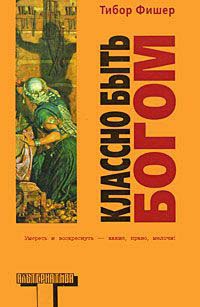Явление Фалеса заставило их разрываться между желанием объявить мне обструкцию и отказать от квартиры и вожделением к денежным знакам (я платил наличными и готов поклясться, что этим бумажкам было не суждено оставить след в недрах налоговых ведомств). Они разразились уничижительной тирадой в адрес всех грызунов, а Фалес – Фалес рассматривал их с брезгливым любопытством. Слоновье дерьмо в голубом галстуке-бабочке меньше бы удивило моих хозяев и вызвало бы с их стороны прием куда более радушный. В отличие от большинства диких животных, которые, говорят, так и не могут примириться с потерей свободы, наш крысак по достоинству оценил прелести угощения на дармовщинку. Он обзавелся выразительным брюшком, воспылал чувством собственника к своей клетке, не желая отходить от нее дальше чем на пару шагов, а если его что и тревожило, так это перспектива лишиться своих апартаментов и вновь вернуться к бытию вольного крысака.
Юппа я представил как профессора-невропатолога из университета Монпелье. «Я должен извиниться за коллегу, но, как вы, возможно, знаете, невропатологи – люди со странностями».
Жослин пришла вскоре после того, как Юбер покинул мое обиталище, получив выразительное напутствие на дорожку: «Что бы ни случилось – сюда не суйся. Объяснения, кто мы, да что мы, – в гробу мы их видали!» Я даже написал ему памятку того же содержания, дабы, в случае чего, он не бил себя в грудь, утверждая, мол, – да, да, но он просто запамятовал или недослышал. В общем-то я понимал: с Юппом – что в лоб, что по лбу. И все же записочка – может, попавшись на глаза моему напарнику, она освежит его благоразумие?
Мы быстренько облачились в одежды похоти.
Я набрал воды в ванну. Намекая, что нам самое место в ней. «Мы же не влезем», – смутилась Жослин, но мы влезли. Вода ее прелестям была нипочем. Жослин обладала таким редким качеством, как водостойкая красота. Грудь Жослин, все выпуклости и впадинки тела сияли влажным блеском. «Я никогда этого не делала», – улыбнулась она (брызгая на меня ладошкой). Пожалуй, я не ожидал, что с ее губ может сорваться что-либо подобное.
– Что не делала?
– Никогда не принимала ванну вдвоем.
Я был поражен. И одновременно польщен. Польщен тем, что впервые это происходит именно у нас с ней, что старина Эдди показал ей что-то такое, что до него никто не делал. Спустя годы она скажет, если даже кроме этого и говорить-то будет нечего: «О, Эдди – в ванной он вел себя как бандит!»
Жослин мне нравилась, нравилась до бесконечности. Один из немногих даров, которыми награждает подкрадывающийся солидный возраст: ты перестаешь чего-нибудь ждать от жизни, и когда она тебе улыбается, ты способен оценить эту улыбку. Вечер, проведенный с Жослин. Даже если бы мне никогда больше не суждено было увидеть ее, у меня останутся эти 14 400 секунд вместе. С годами как-то все больше учишься ценить приятное общество. Жослин никогда не доставала меня мелочами, никогда не пускалась в разговоры о дальнейшем нашем маршруте, связанном с четвертым измерением, никогда не предлагала мне сделку, не вытаскивала на свет глагол урегулировать.
– Ты никогда не был женат?
– Это – единственная ошибка, которой я не сделал. Жизнь слишком коротка, чтобы совершить их все. Если только ты не ложишься спать далеко за полночь – или не сильно засветло, – чтобы все успеть.
Ее ноги – они казались бесконечными; само совершенство форм, устремленное в небо. Я тоже почувствовал, что я пока еще вполне в форме.
Окинув взглядом мои формы, Жослин пробормотала:
– Жизнь коротка, но кое-что другое весьма изрядно. У некоторых.
* * *
Кафе Жерара
Будет ли Жерар там? – спрашивал я себя. То ли это время, когда его можно застать? Я предпочел выйти на улицу и отправиться в кафе, отдавшись импульсивному желанию повидать старого приятеля. Тут уж либо – по вере вашей, либо – не взыщите, да не взыскомы будете... Бесполезно играть в предусмотрительность, когда с момента вашей разлуки минуло столько лет.
Города – это люди, и если Бордо – это Монтень, то Тулон – это Жерар.
Я не слышал о нем уже двадцать с лишним лет. Не видел же – все тридцать, а ведь пребывание в его компании всегда доставляло мне удовольствие.
Он был симпатичен мне по множеству причин; несмотря на то что Жерар преуспел там, где я потерпел фиаско, среди всех, с кем довелось сталкиваться в этой жизни, он был едва ли не единственным, чья неорганизованность, разгильдяйство и непрактичность могли затмить мои собственные. Про его закидоны я уж не говорю...
Первое поджераривание
То был год, когда я взял академический тайм-аут и отправился во Францию. После двух лет беззаветного служения философии в Кембриджском университете моя вера в избранное поприще начисто повыветрилась, поэтому Уилбур, мой научный руководитель, предложил мне съездить за границу и освежить любовь к мудрости новыми впечатлениями:
– Проведи-ка ты годик вне университета – поповесничай и все такое. Делай что угодно, только помалкивай о поисках истины, умоляю. Не выношу подобных разговоров. Если тебе невтерпеж докопаться до истины – лучший способ: поднесите электроды к чьим-нибудь гениталиям. Чертовски быстро все узнаешь, от и до.
– Везет же сукиному сыну, – напутствовал он меня на прощание. – Хотел бы я на годик вырваться из этого болота! – Последнее я меньше всего ожидал услышать: в моих глазах Уилбур всегда был олицетворением сдержанности и светскости – качеств, которые воспринимались и как маска мудреца-философа, и как проявление его истинного «я». Об ту пору я не осознавал: гребаная рутина из семестра в семестр настолько погребает тебя, что, как бы ты ни любил свое дело, на душе под конец остается лишь осадок досады – и ничего больше.
Вот так я получил место ассистента в лицее имени Золя в Тулоне. Работа вполне меня устраивала, ибо все, что от меня требовалось, – бездумно открывать рот и вещать нечто изнывающим от скуки подросткам.
– Эти выходные мне пришлось провести в Нормандии, – объявил Жерар через пятнадцать секунд после того, как я впервые столкнулся с ним в столовке вышеупомянутого учебного заведения. – Честно пытался сохранить верность жене, но куда уж там! – У Жерара были проблемы по этой части. Не такие, конечно, как у Ника (а знал ли я уже тогда Ника?), однако раз за разом он не без удивления обнаруживал еще одну обнаженную женщину насупротив себя, ровнехонько на расстоянии своего радунчика. Жерар служил в лицее кем-то вроде воспитателя (то есть ему платили за то, чтобы он кричал на подростков, едва только они переставали изнывать от скуки) и работал над диссертацией по философии.
Наибольшее впечатление на меня производили его талант заговаривать женщин до состояния, когда они начинают срывать с себя тряпки одну за другой, пока не останутся в чем мать родила, и его ненасытная способность читать. Он прочел все, что не было исповедальной чушью, и всегда таскал с собой книги (на французском, немецком, английском), о которых я слыхом не слыхивал, но которые очень даже стоило прочесть; кроме того, он таскал как минимум одну «запасную» книжку, на случай, если кончится та, которой он поглощен сейчас, или он решит, что она на самом деле не стоит его внимания. Всего на три года старше меня, Жерар всерьез готовился выполнить нормативы на звание великого французского философа и разминался перед тем, как выйти на арену. Я склонен считать, что вполне в состоянии рассматривать мироздание (включая вашего покорного слугу) диалектически, но он одним ударом мог вышибить из-под меня интеллектуальные подпорки, напав ли из-за кустов во главе оравы немецких мистиков, отфильтровав ли некий интеллектуальный осадок – кто бы подумал, что он там есть, – из очередной идеологии и заткнув мне рот выдержкой-другой из американских философов-прагматиков, о существовании которых я даже не подозревал, – в их сочинения с 1913 года не заглядывала ни одна живая душа! И все это – во время большой перемены, за чашкой кофе!