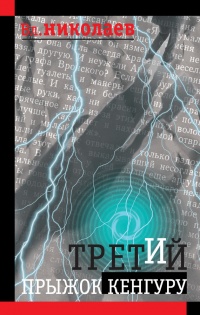Я добегаю до церкви и вижу грот Мариан, скрытый в той части сада, где деревья торчат из снега, точно гигантские спички. Уже почти Сочельник. Завтра в этой церкви мои самые любимые хоралы прогорят коротким, но ярким огнем, в свете которого люди будут держать у лиц мягко оплывающие свечи, а нотки воска будут падать на картонные подсвечники. А через год они вернутся снова.
14. Голос
По моему опыту, лучший способ научиться писать стихи – сначала потерпеть сокрушительное фиаско на ниве пения.
Из-за того, что мой отец сильно злоупотреблял шестиструнными гитарами, пока мама была беременна, моя сестра Кристина родилась с музыкальным инструментом в горле. За ним нужно было ухаживать, настраивать его и без устали практиковаться, поэтому в подростковые годы мы долгое время вместе брали уроки вокала. Мы называли их просто: тренировка голоса.
Мысленно вернитесь к урокам фортепиано, флейты, виолончели, игры на барабанах, вращению жезла, балету, гимнастике или к бесплатным самостоятельным занятиям у себя дома или во дворе, когда вы, в свете одинокого уличного фонаря, снова и снова бросали теннисный мяч в квадрат на двери гаража. Словом, вернитесь в то время, когда вы тренировались, доводили себя до седьмого пота, выполняя упражнения, и в каждой капле этого пота чувствовали, как закаляется ваше тело и дух на пути к совершенству.
Увы, некоторым не дано это познать, и я была именно таким человеком.
Это была величайшая трагедия в моей жизни. Умей я петь, вы бы не держали в руках эту книгу. Я бы сейчас сидела в своей квартирке где-нибудь в Вене, подносила маленькие пирожные ко рту, сжимая их двумя пальцами, пила бы одеколон и гладила белого стерилизованного перса, лежащего на обитом золотой парчой диване. Будь я в состоянии извлечь из своего тела сладостный чистый звук, мне бы не было нужды в бумаге. Но петь я не умела, и вот случилось то, что случилось.
Я не умела «читать» музыку, зато музыка еще как умела читать меня. Она скользила по мне, слово за словом, глава за главой, водя пальцем по середине страницы, бесстыдно выделяя ногтем мои самые слабые строки. И понимала меня так хорошо, что это даже пугало. Ничто во мне не могло укрыться от ее глаз, но сама она была для меня закрыта.
Я не понимала музыкальной структуры, не понимала, как использовать дыхание и как превращать лицо в мертвую маску, когда я беру высокую ноту. Кроме того, я не понимала, как работает музыкальный размер. Не удивительно для человека, далекого от метрической системы.
Кроме того, во мне было совершенно атрофировано чувство тональности. Что это вообще за чувство такое, к остальным и веревкой не привяжешь. Даже к шестому.
Буду с вами предельно честной, мое пение напоминало последний вопль человека, на которого упал рояль.
Но моя сестра петь умела. Действительно умела. Ее голос сливался с музыкой, он был высоким, чистым и округлым, как грудка голубки. Когда я слушала ее пение, мне казалось, что моя голова блаженно пустеет, а затем наполняется вновь. Я знала, что это – искусство, потому что оно выманивало мою душу из тела и сливалось с нею в непостижимых высотах.
Почему она, а не я? Может, это как-то связано с тем, что ее назвали в честь Иисуса, которого окружал сонм сладкогласых ангелов, а меня – в честь римского политика, который обожал пыжится перед толпой и утомлять ее длинными речами.
Мы довольно часто пели вместе в церкви, потому что наши голоса были родственниками, хотя мой, очевидно, был тем самым горбатым и сумасшедшим дядюшкой, который живет на чердаке и спускается только за едой. Тем не менее, слияние с ней в песне возносило меня на особый духовный уровень. Это было что-то непостижимое, как закончить музыкальную фразу за поющей птицей или воспарить над землей, оказавшись в компании бабочек. Чистая радость, возможная только в живой природе.
Когда я пела вместе с ней, я чувствовала себя на грани физической трансформации. Это не слова тогда исходили из нас. Это была самая суть слов, их жидкость, плазма, аромат – то, что выплескивалось из нас и жаждало свободы.
Это было захватывающе, потому что означало, что существовал целый отдельный мир нашего бытия, в котором слова сами по себе не имели смысла, они были лишь искусственными резервуарами, в которых плескалась музыка.
По вторникам и четвергам мы вместе пели в школьном хоре. Кристина была на два класса старше меня, и все мы испытывали благоговейный восторг перед ее талантом. Меня, скорее всего, взяли в хор только из-за того, что мы с ней носили одну фамилию.
Лучшей певицей в нашем хоре все же была не моя сестра. Лучшей была Трунессия, которая всегда была на два шага впереди нас. Она была высокой, с коротко подстриженными кудрями, и во время пения немного откидывала назад голову, словно пыталась удержать за ухом цветок. Когда мы не могли взять ту или иную ноту, Трунессия советовала нам представить, что голос может ходить по лестнице, спускаться в подвал и подниматься на верхний этаж.
Для меня в этом был смысл. Пение представлялось мне полным потайных ходов, скрытых лестниц и тайных комнат. Правда, я все никак не могла их найти. Однажды, когда я пилила гаммы, у моего голоса начисто сорвало крышу, и он подскочил на октаву выше. Он совершенно не совпадал с аккомпанементом пианино и на миг воспарил над миром пения. Не знаю, как это произошло, я никогда потом не смогла это повторить. Это было какое-то неопознанное явление с другого конца света.
Вела хор рыжеволосая учительница, чье лицо напоминало скалу, омытую ветрами, из которой природа и выточила ее суровые каменные черты и которое явно некогда было частью хребта Биг-Сур [41], хоть и находилось от него за тысячу миль.
Она носила себя, как хрустальную вазу, как будто у нее было больше нервных окончаний, чем у других людей. Эта дама просто не умела быть забавной и смешной, хотя все в школе знали, что она когда-то встречалась с Рональдом Макдональдом.
В перерывах между занятиями мы пытались представить себе, как выглядели эти отношения. Как вообще можно целоваться с Рональдом Макдональдом, если на тебе самой нет грима и красного носа? А когда он смотрит на тебя с явной похотью во взгляде, разве ты не чувствуешь себя в такую минуту просто гамбургером?
Рыжая учительница пела, несмотря на все мигрени, спазмы и прочие формы женских страданий. Время от времени она прижимала ладони к низу живота. Время от времени она прикасалась пальцами к вискам. Она, скорее, была диез, чем бемоль, и рот у нее был тоньше и прямее, чем нижняя линяя нотного стана.
Она научила нас внутренней улыбке, так как улыбаться по-настоящему во время пения было нельзя. Улыбаться нужно было всем лицом – кроме рта. Казалось бы, невозможно, но в пении полно таких вещей. Пение хуже буддизма. Неудивительно, что в церквях так много поют.