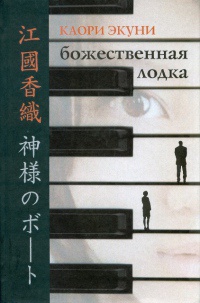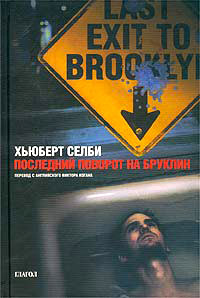Ознакомительная версия. Доступно 45 страниц из 225
— Ничего плохого не случилось, Гарольд. — Она улыбнулась. — Наверное.
Я сел. Она шумно вдохнула.
— Я беременна. Как так вышло — не знаю. Наверное, пропустила пару таблеток и забыла. Почти восемь недель. Я сегодня была у Салли, сомнений никаких.
(Салли была ее соседкой по общежитию, ее лучшей подругой и ее гинекологом.) Она выпалила все это очень быстро, отрывистыми, короткими предложениями. Потом помолчала.
— От моих таблеток месячные прекращаются совсем, поэтому я не знала.
Я молчал.
— Скажи что-нибудь.
Это мне удалось не сразу.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.
Она пожала плечами.
— Нормально.
— Это хорошо, — невпопад пробормотал я.
— Гарольд, — она уселась напротив меня, — что мы будем делать?
— Ты что хочешь сделать?
Она снова пожала плечами.
— Я знаю, что я хочу сделать. Я хочу знать, что ты хочешь делать.
— Ты не хочешь его оставлять.
Она не стала спорить.
— Я хочу знать, чего хочешь ты.
— А если я скажу, что хочу его оставить?
Она не удивилась.
— Тогда я серьезно об этом подумаю.
Такого я тоже не ожидал.
— Лис, — сказал я, — мы сделаем так, как ты хочешь.
Нельзя сказать, чтобы мной двигало одно лишь великодушие — скорее трусость. В этом, как и во многом другом, я был рад оставить решение за ней.
Она вздохнула:
— Не обязательно все решать сегодня. У нас есть сколько-то времени.
Ну да, понятно, четыре недели.
Я думал об этом, лежа в постели. Мне в голову приходили все те мысли, которые обычно приходят к мужчинам, стоит им узнать, что их партнерша беременна. Как будет выглядеть младенец? Понравится ли он мне? Полюблю ли я его? А потом навалились и другие мысли. Отцовство. Со всей его ответственностью, и скукой, и ловушками.
Наутро мы об этом не говорили и на следующий день тоже. В пятницу, ложась в постель, она сонно сказала: «Завтра надо поговорить», и я ответил: «Обязательно». Но назавтра мы так и не поговорили, и потом не поговорили, и вот прошла девятая неделя, а за ней десятая, а за ними одиннадцатая и двенадцатая, а потом уже было поздно что-либо делать, не опасаясь медицинских и этических проблем, и, мне кажется, мы оба испытали облегчение. Решение было принято за нас — вернее, наша нерешительность приняла решение за нас, — и теперь мы ждали ребенка. Такую взаимную нерешительность мы проявили впервые за весь наш брак.
Мы думали, что девочку назовем Адель Сара (Адель в честь моей матери, Сара в честь Салли). Но это оказалась не девочка, поэтому мы предложили Адели (она была так счастлива, что заплакала — один из тех редчайших случаев, когда она плакала при мне) выбрать первое имя, а Салли второе, получился Джейкоб Мор. (Почему Мор, спросили мы у Салли, и она ответила, что в честь Томаса Мора.)
Мне никогда не казалось — тебе, я знаю, тоже не кажется, — что любовь к ребенку выше, осмысленнее, значительнее, важнее любой другой. Мне так не казалось ни до Джейкоба, ни после. Но это особенная любовь, потому что в ее основе не физическое влечение, не удовольствие, не интеллект, а страх. Ты не знаешь страха, пока у тебя нет детей, и, может быть, именно это заставляет нас считать такую любовь более величественной, потому что страх придает ей величие. Каждый день ты просыпаешься не с мыслью «Я люблю его», а с мыслью «Как он там?». Мир в одночасье преображается в вереницу ужасов. Я держал его на руках, стоя перед светофором на переходе, и думал: как абсурдно считать, что мой ребенок, любой ребенок может выжить в этой жизни. Такой исход казался столь же невероятным, как выживание какой-нибудь поздней весенней бабочки — знаешь, такие маленькие, белые, — которых мне иногда доводилось видеть в неверном воздухе, вечно в нескольких миллиметрах от столкновения с лобовым стеклом.
Я скажу тебе, какие еще две истины мне открылись. Во-первых, не важно, сколько лет ребенку, не важно, когда и как он стал твоим. Как только ты назвал кого-то своим ребенком, что-то меняется, и все, что тебе в нем раньше нравилось, все твои прежние чувства к нему теперь в первую очередь окрашиваются страхом. Это не про биологию, это нечто большее — когда страстно хочешь не столько обеспечить выживание своего генетического кода, сколько доказать свою несокрушимость перед лицом уловок и нападок вселенной, победить те силы, которые хотят уничтожить твое.
И второе: когда твой ребенок умирает, чувствуешь все, что должен чувствовать, все, о чем столько раз писало столько людей, поэтому я даже не стану ничего перечислять, а только замечу, что все написанное о скорби одинаково, и одинаково оно не случайно — от этого текста по большому счету некуда отступать. Иногда что-то чувствуешь сильнее, что-то слабее, иногда — не в том порядке, иногда дольше или не так долго. Но ощущения всегда одинаковые.
Но вот о чем никто не говорит: когда это случается с твоим ребенком, часть тебя, крошечная, но неумолимая часть испытывает облегчение. Потому что тот момент, которого ты ждал, страшился, к которому готовил себя с первого дня отцовства, наконец наступил.
Ага, говоришь ты себе. Оно случилось. Вот оно.
И после этого тебе больше нечего бояться.
Много лет назад, когда вышла моя третья книга, один журналист спросил, можно ли сразу понять, есть у студента юридическое мышление или нет, и ответ на это — иногда можно. Но ты часто ошибаешься: студент, который казался блестящим в начале семестра, становится все менее блестящим к концу года, а тот, на кого ты вообще не обращал внимания, вдруг расцветает, и ты наслаждаешься тем, как он размышляет вслух.
Нередко студенты, больше других одаренные от природы, и мучаются больше других на первом году обучения — юридическая школа, особенно первый ее курс, это, конечно, не то место, где расцветают люди, наделенные творческим подходом, абстрактным мышлением и воображением. Мне часто кажется — я об этом слышал, но не знаю из первых рук, — что так же обстоят дела в художественных училищах.
У Джулии был друг по имени Деннис; в детстве он был невероятно талантливым художником. Они с Джулией дружили с ранних лет, и она как-то показала мне кипу рисунков, сделанных им лет в десять — двенадцать: наброски птиц, которые что-то клюют на земле, автопортреты — его круглое спокойное лицо; портрет отца-ветеринара, который гладит осклабившегося терьера. Отец Денниса не видел смысла в уроках рисования, так что мальчик никакого формального образования не получал. Но когда они выросли и Джулия поступила в университет, Деннис отправился в художественное училище — учиться рисовать. В первую неделю обучения им разрешали рисовать что угодно, и преподаватель всегда выбирал именно его рисунки, чтобы приколоть их на доску, похвалить и обсудить.
Но потом их стали учить, как рисовать — в сущности, перерисовывать. В течение второй недели они рисовали только овалы. Широкие овалы, пухлые овалы, тонкие овалы. На третьей неделе рисовали круги: трехмерные, двухмерные. Потом цветок. Потом вазы. Потом руки. Потом головы. Потом туловища. И с каждой неделей профессионального обучения дела Денниса шли все хуже и хуже. К концу семестра его рисунки никогда уже не попадали на почетную доску. Взросшая в нем осторожность мешала рисовать. Теперь, увидев собаку с шерстью до самого пола, он видел не собаку, а круг на параллелепипеде и, пытаясь ее зарисовать, беспокоился о пропорциях, а не о том, чтобы передать ее собачность.
Ознакомительная версия. Доступно 45 страниц из 225