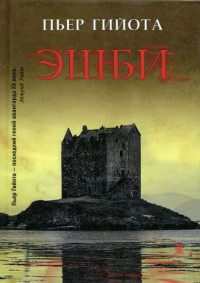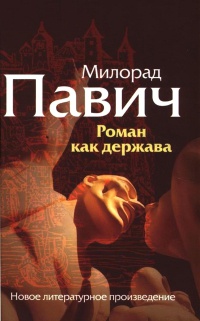Тем вечером я узнал, что отец Поля любил читать ему «Учителя фехтования» и «Графа Монте-Кристо», потому Поль и назвал свое самое знаменитое блюдо в честь Александра Дюма. Отчасти по этой самой причине мы и прилетели сюда. Замок Иф, остров-тюрьма, бывший местом действия «Графа Монте-Кристо», оказался частью того самого ночного пейзажа, который мы видели из окна, глядя на Марсельский залив, – серая скала и крепостные стены, выглядевшие в гирляндах крошечных огоньков неожиданно эффектно.
Шампанское развязало нам языки, и – in vino veritas – я наконец узнал кое-какие секреты такого открытого, как всем было известно, человека, как Поль Верден. Дело шло к концу трапезы. Мы уже ели легкий миндальный торт, время от времени подбадривая себя освежающими обоняние дозами коньяка. Поль тихо спросил меня, ел ли я когда-нибудь в «Мезон Дада» в Экс-эн-Провансе, минималистском ресторане многообещающего шеф-повара Мафитта. В его голосе явно слышались неуверенность и беспомощность, даже если учесть количество употребленной им выпивки.
Шарль Мафитт вышел на кулинарную авансцену как лидер постмодернистского движения деконструктивной гастрономии. Он использовал баллоны с жидким азотом (не совсем обычное кухонное приспособление, мягко говоря) для создания своей фирменной «кристаллизованной пены» – твердого мусса из икры морского ежа, киви и фенхеля. Другим его фирменным блюдом была миска вкуснейшей «пасты» reine des reinettes, изготовленной из сыра грюйер и яблок. Его техника подразумевала измельчение ингредиентов почти до молекулярного уровня с последующим созданием странной смеси сплавленных воедино продуктов для получения совершенно новых творений.
Я признался Полю, что все же провел один незабываемый вечер в «Мезон Дада» несколько лет назад со своей тогдашней подружкой, широкобедрой Мари, от которой пахло грибами. С чего начать? Мафитт измельчил в пыль мятные лепешечки для облегчения боли в горле «Фишерменэс френд» и использовал этот странный ингредиент как основу своих «леденцов из омаров» – потрясающего блюда, подававшегося с «трюфельным мороженым». Даже классические лягушачьи лапки, это архетипическое блюдо сельской Франции, мастерство Мафитта изменило до неузнаваемости. Он снял мясо лягушачьих лапок с костей, карамелизовал его в инжирном соусе и сухом вермуте, а потом подал с «бомбой» из поленты, усеянной фуа-гра и зернышками граната. Ни намека на классические ингредиенты вроде чеснока, сливочного масла или петрушки, которые обычно используют для приготовления лягушачьих лапок. Когда я спросил Мари, что она думает об обеде, она ответила на языке парижских улиц: «Zinzin. С прибабахом». И должен признаться, что неграмотная продавщица довольно точно подвела итог нашему обеду еще до того, как этот знаменитый донжуан начал лапать ее под столом.
Все это я рассказал Полю, и, пока я говорил, он становился все более и более угрюмым, как если бы каким-то образом из моей оживленной болтовни понял, что этот быстро набирающий обороты ресторатор с юга однажды станет его заклятым врагом, поскольку сдаст в архив как совершенно устаревшую классическую французскую кухню Поля, которую тот любил всем своим существом и за которую готов был стоять насмерть.
Однако Верден опомнился.
– Довольно. Мы здесь отмечаем твою вторую звезду, Гассан. А теперь допивай. Поедем на дискотеку.
Поль допил бренди и сказал:
– Вставай, д’Артаньян. Вставай. Пора нам вкусить пользующихся заслуженной славой марсельских шлюх.
Не знаю, сколько Поль потратил тогда на наше пиршество, но этот вечер оказался одним из самых памятных и приятных в моей жизни.
Через год я заезжал в Нормандии к одному из своих поставщиков и зашел в Кургене к Полю. Его жена, Анна Верден, чопорно приветствовала меня в дверях; о ней было известно, что она довольно пренебрежительно относится к друзьям Поля, не принадлежащим к высшему свету, предпочитая вместо этого тратить свои силы только на его самых знаменитых клиентов и прихлебателей. После явно прохладной встречи мадам Верден все же велела девушке проводить меня в логово Поля в глубине дома.
Я шел за горничной по коридорам буржуазного дома XIX века, все стены которого были увешаны фотографиями в рамках и вырезками, повествующими о неуклонном восхождении Поля к вершинам высокой кухни. И вдруг я заметил лист, украшенный красной восковой печатью и исписанный каракулями, наклон букв которых показался мне слегка знакомым.
Этот листок в рамке оказался брошюрой, изданной в конце 1970-х годов, и неразборчивые буквы, приписанные внизу твердой рукой, гласили: «Полю, моему дорогому другу, великому мяснику из Кургена, человеку, который однажды поразит весь мир. Так держать! Vive La Charcuterie Française! Да здравствует французское колбасное дело!»
Подписано было просто: Гертруда Маллори.
И вот наконец мы подошли к ключевому моменту. Мне было тридцать пять лет, когда «Бешеная собака» получила свою вторую звезду, а через несколько лет у меня случился творческий кризис. Я упорно работал, но топтался на месте, поскольку свежесть и пыл, с которыми я начал работать в «Бешеной собаке», в рутине трудовых будней подвыдохлись.
Признаю, за то время мы получили несколько посредственных оценок. Но прежний огонь все еще горел где-то в глубине, и, когда мне исполнилось сорок, мной овладел опасный непокой, желание добиться чего-то еще, сделать шаг вперед.
Я хотел – даже жаждал, – чтобы произошли какие-то кардинальные перемены.
Папу нашли мертвым на полу в кухне, в халате, в окружении осколков тарелок и стеклянных мисок. Тетя и местный доктор от большого ума заставили папу в возрасте семидесяти двух лет сесть на строгую диету. Он и слышать об этом не хотел. Проснувшись от громкого бурчания в животе, папа спустился в кухню глубокой ночью немного перекусить. Он открыл холодильник и засунул туда голову. Как сказал врач, он заглатывал остатки еды так быстро, что кусок куриной лапки застрял у него в горле.
Испуганный холодным куском, который мешал ему дышать, папа в панике метался по кухне, пока наконец не упал с тяжелым сердечным приступом. Судьба была милостива, и папа умер еще до того, как повалился на пол.
Все мы думали, что папа будет жить вечно, и по сей день его похороны в Люмьере представляются мне как в тумане. Семья обезумела от горя, и я сам так горевал и столько плакал, что даже не заметил, насколько немощной выглядела мадам Маллори. На нетвердых ногах она стояла на краю кладбища и опиралась на руку мсье Леблана. Я видел только кладбище, заполненное местными жителями. Пришли тысячи, некоторые – даже из Клерво-ле-Лак, и все они стояли, сняв шляпы и склонив головы в почтительной скорби.
Он их все-таки завоевал в конце концов, мой папа.
Через два месяца, спускаясь по лестнице из своей мансарды, мадам Маллори споткнулась и упала, сломав несколько ребер и обе ноги. Она умерла через несколько недель от пневмонии, прикованная к постели, в том же госпитале, в котором лечили мои ожоги двадцать лет назад.
К огромному моему стыду и печали, я так никогда и не съездил в Юра, чтобы как следует попрощаться с моей хозяйкой и наставницей, но я просто не мог этого сделать, в Париже происходило слишком много важных событий. Жизнь всегда преподносит нам неожиданные сюрпризы, и после стольких лет везения и размеренного течения, очевидно, опять наставало время для неразберихи и кутерьмы в чисто индийском стиле.