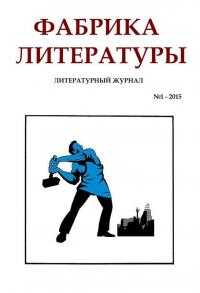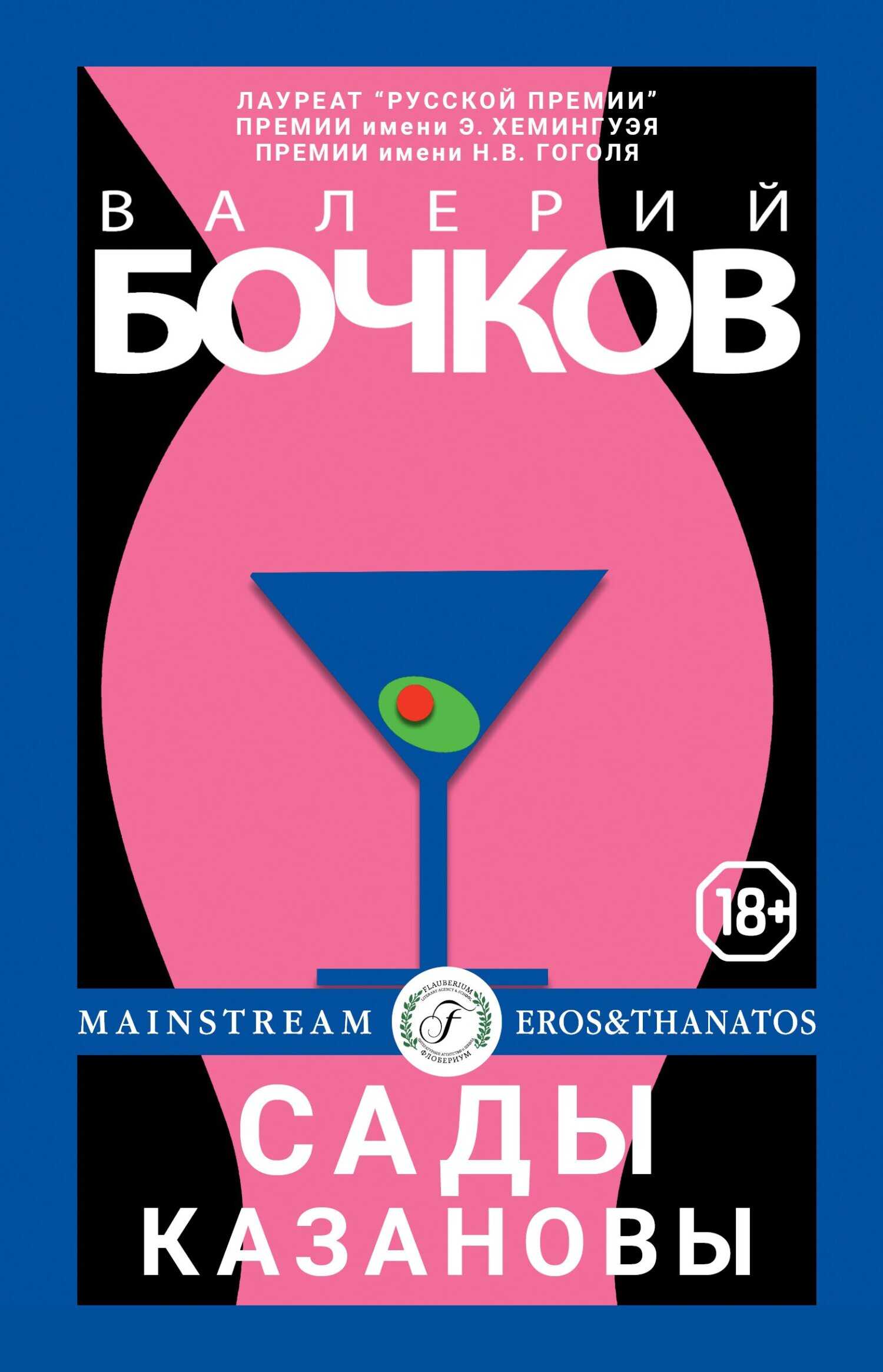фехтовать. Клинок лейтенанта сломался, и капитан уже был готов нанести смертельный удар, но в этот момент один из солдат подкрался сзади и выстрелил капитану в спину.
После боя на теле капитана Тича насчитали пять пулевых и двадцать пять сабельных ран. Лейтенант Мэйнард приказал отрубить голову Чёрной Бороде и подвесить её на бушприте своего флагмана.
56
«Почему он снова ушёл в море? – думал я, разглядывая половой орган капитана Тича. – Почему не остался с молодой женой? Какая сила гнала его в море, сквозь бури и штормы, на волосок от виселицы, за один вздох до плахи?»
Я постучал ногтем по стеклу:
– А, капитан?
Капитан Тич не отвечал. Могучий орган величественно хранил молчание.
Я представил, как он, тогда жизнерадостный и весёлый, месяцами томился в тесном мраке кожаных бриджей, пересекая Атлантику или Саргассово море. Как прислушивался к рёву абордажной атаки, к грому битвы, к свисту пуль и звону сабель. К стонам раненых и умирающих, к зычным командам своего хозяина. Как он предвкушал праздник, когда флагман «Месть королевы Анны» входил в гавань Санта-Круз или Гаваны, Кейптауна или Вильямсбурга. И какой фурор производил в будуарах дорогих куртизанок и в нищих спаленках портовых шлюх, наконец являясь на свет во всём великолепии своего могущества. С каким упоением он проникал в жаркие влагалища опытных жриц разврата, с каким восторгом протискивался в трепетные щели невинных девственниц, в какую сладострастную агонию вгонял пылких островитянок, сочных креолок и томных англичанок. Сколько губ ласкали его, сколько рук нежили и холили, трепали по головке. И вот теперь, триста лет спустя, он томится в тёмной кладовке, рядом с вёдрами, швабрами и пыльной стеклотарой.
– Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели… – пробормотал я вполголоса.
– Это Боб Дилан? – насторожился Лутц. – Или Леннон?
– Ты должен отпустить капитана на волю. – Я строго посмотрел Лутцу в глаза. – Поставь себя на его место.
Лутц насупился и загрустил.
– Продай мне его. – Я полез в задний карман.
– Ну да, конечно, чтоб ты его отпустил!
– Не твоё дело. Просто продай, и всё!
Бумажник я опять забыл дома.
– Марек! – умоляюще проговорил Лутц. – Ты пьян! А он мёртв. Мёртв, понимаешь?
Я выдержал паузу и тихо выдохнул:
– А ты в этом уверен?
Мы с минуту абсолютно молча разглядывали капитана сквозь синеватое стекло и желтоватый рассол.
– Если ты настаиваешь, – осторожно предложил Лутц, – я могу его поставить на полку, на верхнюю, за бутылками… Пусть оттуда смотрит.
57
На острове времени нет. Точнее, время тут не имеет значения. У нас нет времён года, листья не желтеют и не опадают на землю, о снеге островитяне имеют весьма приблизительное понятие, лето – наш единственный сезон. Сезон без конца и без начала. Ты можешь прилечь вздремнуть после обеда и проснуться в сентябре. Первые пару лет я ещё ориентировался в числах и днях недели, через три года с трудом мог вспомнить, какой сейчас месяц, сегодня мне наплевать на все эти условности: номер года, века, тысячелетия – не более, чем абстрактные цифры.
Утром я выползаю из кровати на песок пляжа, до моря всего тридцать три шага – вот пример реальных цифр, – просыпаюсь я только под водой. Ласты, маска и никаких аквалангов. Коралловый риф начинается у моего пляжа и тянется на север до Ванильной бухты. Утренний свет делает воду кристально прозрачной; я неспешно плыву над рифом, который напоминает сказочный город с высоты птичьего полёта. Невесомый, я парю над башнями мрачных замков, над шпилями готических соборов, что позатейливей Гауди, над горбатыми мостами через бездонные ущелья, над пиками диких утёсов. Безмолвный мир – заколдованный, жуткий, манящий.
Посылаю привет знакомому осьминогу. Он только проснулся и готовится к завтраку, проверяя свой охотничий камуфляж: притворяется, хитрый бес, то ли цветком, то ли кораллом. Стая любопытных мальков, на свою беду, уже заинтересовалась диковинкой. Тигровая акула средней величины – вылитая генеральская вдова – с презрительным высокомерием рисует идеальный овал вокруг меня и равнодушно уходит на глубину. Уже проснулись морские скаты – этих я хорошо знаю, – они сопровождают меня какое-то время, потом отстают.
К полудню солнце выползает в зенит, вода приобретает белёсый оттенок, к этому времени я уже добрался до Ванильной бухты и возвращаюсь назад. Сессил приучила меня совмещать завтрак и ланч, он умещается в литровый стакан и состоит из смеси трёх соков, льда и рома. К западному крылу дома я пристроил мастерскую со стеклянной крышей, вместо стен там льняные занавески, выгоревшие до слепящей белизны, от бриза они надуваются упругими парусами, и кажется, что мастерская вот-вот отчалит и унесётся то ли в море, то ли в небо. Обстановка аскетичная: два больших мольберта, подиум, диван с мягкими подушками – это для натурщиц. Рисую и пишу я стоя, со стороны процесс напоминает урок фехтования – так сказала одна шведская нудистка, она жила тут со мной пару недель.
Я давно перестал соревноваться с Богом в искусстве колорита. Пейзаж самой отчаянно дикой палитры будет лишь серой копией реального заката. От красок утреннего востока хочется плакать навзрыд. Облака тут раскрашивают ангелы. Когда на остров движется ураган, фиолетовые тучи встают из-за горизонта косматыми великанами, чудища клубятся и растут на глазах, в холодной черноте сверкают зигзаги молний, вспыхивают красные зарницы. Картина похожа на декорацию к мастерски поставленному апокалипсису. Если бы Богу поручили поставить Вагнера, думаю, получилось бы что-то подобное.
У меня галерея на центральной улице Круз-Бэй, хозяйничает там по-прежнему Сессил. Ей уже под пятьдесят, но это между нами. Юная мулатка с компактным телом цирковой плясуньи на канате превратилась в тропическую богиню, томную и плавную; геометрия её тела состоит из округлых линий, нарисованных исключительно циркулем. Осознание этой трансформации, случившейся буквально на моих глазах, ставит меня в тупик, и дело тут даже не в Сессил – мне трудно поверить, что я настолько стар. Ведь до появления на острове мне удалось прожить уже одну жизнь. Впрочем, об этом не знает никто, включая Сессил.
– Продала два заката и один кувшин. – Она величаво восседает в кожаном кресле цвета запёкшейся крови. – Синий.
– Два пейзажа и натюрморт, – по привычке поправляю я. – Молодец.
Её голова с тугим пучком на макушке кажется маленькой по сравнению с могучим телом. Для солидности Сессил надевает большие очки в красной оправе, что делает её похожей на порочную училку из порнофильма.
– Голые бабы плохо продаются. – Она закидывает ногу на ногу, педикюр у неё голубого цвета. – Я ту зассыху тощую, с бритой мандой, убрала