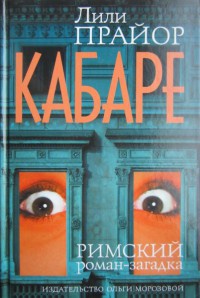Колхоз застеклил окна, наладил дымоход в русской печи, и семья Германнов начала обживать домик. Петра назначили конюхом, Иде места в школе не нашлось. От работы доярки она отказалась – предпочла с Ами быть разнорабочей.
Ида сдружилась с местными, и весть, что она шьёт, быстро разнеслась по трём колхозам разбросанного села, чьё название вызывало в памяти рассказы об ордынцах, – Степной Кучук. Немногословный председатель вызвал её однажды в контору и сказал, как приказал: «Будэш працювати у куспроме»[11]. Приказ теплолюбивая Ида восприняла, как подарок судьбы: работа в помещении была спасением в мороз.
Маргарет бережно распределяла содержимое дорожного бочонка с салом, запас которого убывал с каждым днём. Выручало швейное мастерство Иды, которой помогала Ами: местные женщины рассчитывались картошкой, свёклой, брюквой и редко – мукой. Через три месяца семья Германнов, с трудом привыкавшая к местному климату и порядкам, встречала новый, 1942 год.
Зэк Воркуты
В середине января местная власть сообщила переселенцам о призыве на трудовой фронт мужчин немецкой национальности в возрасте 17–50 лет. Согласно указу, на сборный пункт все должны были явиться в тёплой одежде, с ложкой, кружкой, постелью, запасом белья и едой не меньше, чем на 10 дней.
Ничего, кроме мариентальского сала, в семье не было – Ида и Маргарет ломали головы, из чего сделать запас еды на 10 дней. Выручил председатель колхоза – украинец, раскулаченный в начале 1930-х. Он приказал трудодни Петра отоварить мукой, овсянкой, чечевицей и четырёхмесячным поросёнком.
Насушили мешок сухарей. Протёрли на ручной мельнице (рушилке) овёс и чечевицу, настряпали гору сытных лепёшек. Бочонок с оставшимся мариентальским салом доложили лепёшками, картошкой в мундирах и пакетом травы для чая – хрюшку было решено оставить в живых. Рюкзаком перекинув на плечи тяжёлый бочонок, постель и мешок с сухарями, Пётр вышел из дома и пешком отправился к сельскому совету – месту сбора. Запас еды, как позже выяснилось, вместо 10 дней, пришлось растянуть на месяц.
Дорогу в ссылку называли между собой дорогой смерти – дорога в трудармию оказалась не лучше: с поезда ежедневно снимали трупы. В набитых людьми вагонах будущие трудармейцы должны были продержаться до места прибытия со своей едой. Вместо 10 дней, путь продлился больше месяца – запаса хватило не у всех. Но немцы молчали. Кричали и ругались недовольные едой уголовники, и их во избежание восстания худо-бедно кормили. Пётр не сдержался, высказал наболевшее: «В 20-30-е у нас отнимали нажитое, в 40-е депортировали; в трудармию везут под охраной вместе с заключёнными. Мы все рабы. Себе не принадлежим».
Как только их полуголодная трудовая колонна прибыла в Ивдельлаг, Петра вызвали в НКВД.
– Ты что за котрреволюцию разводил в дороге? – спросил офицер.
Пётр не понимал, о какой котрреволюции речь, и его начали бить. В переполненной уголовниками камере к нему подсел мужичок, спросил, нет ли прикурить.
– Не курю, – прохрипел Пётр.
– Что, браток, били?
– Били.
– За что?
– Не знаю.
– А ты во всём сознайся, – шепнул он в самое ухо Петра.
– В чём «во всём»? – не понял Пётр.
– Ну, спросят: «вредитель»? Скажи «вредитель». Спросят: «вёл агитацию против советской власти»? Вёл, мол…
– А если не вёл и не вредитель?
– Начнут пытать, иголки под ногти загонять. Хочешь выжить – поддакивай, в чём бы ни обвиняли.
Оголодавшего, но ещё крепкого телом Петра спасало в камере то, что уголовников кормили. Если кто из сокамерников отказывался от «бурды», её съедал Пётр. Он съедал всё, что приносили, и его пустой желудок заработал. Как долго это длилось, он впоследствии сказать не мог. Когда в очередной раз его вызвали, Пётр с ноткой мольбы спросил следователя:
– Скажите, в чём я должен сознаться.
– «В чём сознаться», гражданин Германн? У тебя что – память отшибло?
– За последнее время много чего пришлось пережить… Может, и «отшибло».
– Напомним! – угрожающе произнёс офицер. – Кто говорил, что в СССР люди сами себе не принадлежат, что все они рабы?
Наступила тишина. Понимая, что не обошлось без провокатора, Пётр не знал, что ответить. Тишина длилась, казалось, вечность. Офицер не выдержал, поднялся с венгерского стула.
– Говорил или не говорил? – от удара под дых Пётр упал. Пришёл в себя, поднялся, вспомнил слова мужичка из камеры и сказал:
– Виноват, говорил.
– Состоял в антиправительственном заговоре?
– Нн… да, – «сознался» он.
– Задачи?..
– Делать всё, что прикажут.
– Например?
– Расклеивать листовки, – сказал он первое, что пришло в голову.
На все вопросы Пётр придумывал признания, о которых тут же забывал, как забываются сказки, придуманные на ходу. Выстрелом в сердце прозвучало: «Фамилии участников заговора?» Такого вопроса он не ждал – не знал, что бы придумать, чтоб выглядело правдоподобно. «Да… это… я… того…» – начал он заикаться, пока не появились хоть какие-то мысли и не выровнялась замедленная речь.
– Меня пригласили на тайное собрание. И я пошёл ради интереса. Помню, свет коптилки… тени… Я назвался. Мужчина в шапке сказал… что должен выполнять поручения… Однажды мне принесли конверт… В нём лежало запечатанное письмо и записка, чтобы отослал… по адресу. По-моему… в Москву. Не помню.
– Где работал?
– В колхозе.
– Профессия?
– Горняк.
– А теперь скажи. Всю эту мутоту ты только что придумал?
– Истинную правду говорю, гражданин начальник. Начал было внедряться, и нас депортировали.
– Не депортировали! – крикнул офицер. – А переселили! От войны спасли!
– Да.
– Не «да», а «так точно»!
– Так точно, гражданин начальник!
– Рыжиков! – крикнул офицер. – Уведи его!
В камере к Петру снова подсел мужичок.
– Не били?
– Отстань!
– Значит, признал «грехи». Ничего страшного. Упекут на десятку без права переписки. Но… будешь жить. С голоду не помрёшь— «бурда» будет всегда. Правда, зубы можешь потерять. Окажешься в тайге – заваривай сосновые почки и иголки. Будешь пить отвар – останешься с зубами, цинги не будет.
Однажды Петра вывели из камеры и повели холодными лабиринтами. В огромном пустом помещении, где стояли такие же, как он, приказали остановиться. Вскоре посадили всех в поезд, что застучал в неизвестном направлении. Кормили два раза в день. В холодную морозную ночь всех высадили, выстроили по двое, увели к опутанному колючей проволокой лагерю с вышками, собаками, надзирателями. В бараке с трёхъярусными полатями было относительно тепло.