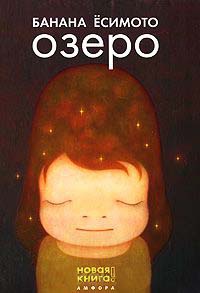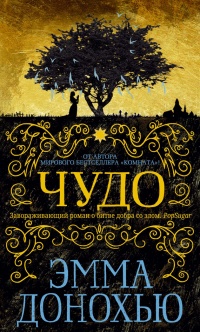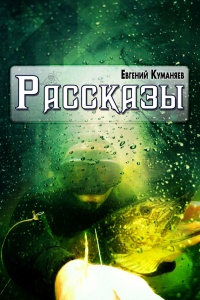Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 146
Помолчав, собравшись с мыслями, Еремей поведал нынешнюю беду и просил благословить на кочевье:
– Надумал я, Нюша, кочевать в Иркутское… к сеструхе. Тяжко в деревне, один же как перст… – Помянулась дочь, что мотается по белу свету за мужем-офицером; помянулись и сыны: один в деревне угорел от пьянки-гулянки, другой на Тихом океане болтается, как навоз в проруби, вроде треску и селёдку из океана гребёт совковой лопатой да шлёт изредка весточки: мол, жив-здоров, лежу в больнице с переломом поясницы, но скоро гряну с долгими деньжищами, и, однако, уж пятый год грядёт. Нюша, бывало, в печали родительского сердца молилась преподобному Сергию Радонежскому и великомученику Евстафию Плакиде за чад, безвестно летающих по белу свету; а за сына, палимого вином, денно и нощно Иисусу Сладчайшему: де умоляю Тя пощадить мое чадо и избавить сына от пьянства греховного; истреби зависимость мерзкую и навлеки на сына волю дерзкую. Пусть к питью он не притронется, и тяга его успокоится… Но опоздала заздравная молитва, заупокойной пришел черед…
– Лихо мне в деревне, Нюша, глаза б не глядели, как деревня загибается… А в Иркутском, Нюша, хоть душа родная – сеструха… Зовёт… Тоже одна кукует… Говорит, в Иркутском и пенсию оформишь… Ничо меня в Шабарше не держит, Нюша; а вот как с тобой расстаться?..
– Езжай, Ерёма, с Богом. С родной душой и доживёшь век. Вот и будете на пару домовничать… А добрая баба подвернётся, дак и женись, не монах же. Вон и Настасья одна горе мыкает… О могилке не печалься, в могилке – прах, а в город укочуешь, сходи в церкву, поставь свечку на помин души рабы Божьей Анны да помолись о многогрешной…
– Помолю-юсь… чего не помолиться? Да вот беда, услышит ли Бог… во грехах, как в шелках… Писание-то почитываю, а… чо уж греха таить… лоб перекрестить забываю. Да… Помолюсь, конечно… помолюсь, Нюша, и ты молись за меня, грешного…
– Молюсь…
Еремей хотел бы молвить ходовое, могильное, мол «пухом тебе земля», но смекнул, что костям безразлично: земля – пух, каменье, коренье, песок, суглинок, а вот душе… а посему повторил заупокойную мольбу:
– Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Анны и прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное…
«Даровал, поди… Недаром батюшка и отпел на святую Анну-пророчицу… Ежели Нюше рай не даровать, дак кому тогда?! И Богу молилась, и билась, как рыба об лед, всем пособить норовила; никого не осудила… и сроду худого не помыслила. Век прожила, на чужом дворе щепки не подобрала… Крутилась, как берёста на огне: и на дойку поспеть, и свою скотину обрядить, и домочадцев накормить…»
Вернувшись с могилок, словно во сне, неприкаянно бродил по усадьбе, глядел сквозь слёзный туман, и везде – в коровьей, куричьей, овечьей стайках, в амбаре, на сеновале, в сенях и избе – везде виделась Нюша: плечом к плечу городили, обихаживали подворье, что досталось от деда Прокопа. Старик, а тогда ещё маслатый мужик, срубил избу, стайки, амбары и баню не в лапу, как привадились иные плотники, а по старинке в охряп, когда, высунувшись из угла, венцы светятся, словно череда солнц. Даже баня… опять же от деда Прокопа, Еремей поменял лишь нижние венцы и полы… даже баня, как встарь, топилась по-чёрному, дым валил через волоковое окошко. Не рушил Еремей заведённой стариком подворной облички, и когда вереи, на коих висели тесовые ворота, подгнили у земли, вкопал свежие лиственничные столбы, а заодно поменял и тёс на воротах и на двухскатной крыше. Потом обновил свежим лесом и бревенчатый заплот. А сколь в завозне выжило дедова инвентаря, начиная от стожней, длинных трезубых вил для метания сена в зароды, и кончая кожемялкой…
Сглупа Еремей пытался продать усадьбу, но даже по дешевке никто не брал, коль и брошенные гнили под дождем-сеногноем. «Оно и ладно: может, не заживусь в Иркутском, прибегу в Шабаршу, – подумал Еремей. – На всё воля Божия…»
По-доброму-то погодить бы до бабьего лета, выкопать картошку, моркошку, свёклу, ссыпать в подпол, но не лежала душа, всё валилось из рук, и мужик попустился; огородину на корню отдал соседке – сгодится: через три дома от Еремея жила Настасьина невестка, безработная, овдовевшая с тремя чадами, мал мала меньше. Муж, тридцатилетний Настасьин сын, попервости горбатился на воровском лесоповале, и крох, что хозяин кидал с барского стола, едва хватало семью прокормить, а надо и голь прикрыть; благо мать подсобляла, выкраивала из пенсии на внуков, благо корову, бычка да кур держали, а то хоть по миру бреди с холщовой побирушкой-помирушкой. Если при народной власти сельские, а ино и городские, прыткие мужики мотались за длинным рублём на Севера и великие стройки, то сын соседки, отчаявшись, завербовался на кавказскую войну, где и сложил буйную головушку; да так сложил, что и отыскать не могли; друзья-однополчане нашли лишь обезглавленное тело. Мать от горя почернела; а невестка все глаза повыплакала…
Еремею собраться – подпоясаться; укутал в наволочки дедовы иконы и семейные карточки, набитые в узорчатую раму, лобзиком самолично выпиленную из фанеры, потом собрал скудные пожитки в заплечный сидор и чемодан, повесил на сенные двери ржавый амбарный замок без ключа, земно поклонился родному подворью, в заветном укроме души чая вернуться, и тронулся с Богом.
* * *
Поселился у сестры; слава богу, у вековечной бобылки водилась за душой двухкомнатная квартирёшка в древнем бараке Знаменского предместья, затаённом в тополёвой чаще. Ветхое жильё, сырое, зябкое, но век доживать можно; да и грех жаловаться – с крушением страны столь народу обездомело.
По приезде огляделся, прописался, вспомнил, что пора пенсию выхаживать, и рванул в собес – так по старинке звал Еремей пенсионный фонд, и подивило мужика: пенсиишки – грошовые… хлеба купишь, на чай занимай… а собес – роскошный дворец, похожий на муравейник с гору; задерёшь башку, чтобы крышу узреть, фуражка падает; а в муравейнике мельтешат чинуши мурашами, бумагами шелестят, перьями скрипят, меж собой судачат на тарабарном говоре, где изредка мелькают словеса русские.
Долго потомственный скотник выхаживал пенсию; пластался по собесу, как савраска без узды; в муравейнике то выходной, то проходной – поцелуй пробой и вали домой… да ещё на кого нарвёшься. Еремей и нарвался на пучеглазую дебелую деву, маскарадно крашенную, со взъерошенной копной жёлтых волос; про эдакие причёски в деревне говаривали: «Не одна я в поле кувыркалась» да приговаривали: «Щёки свекольно напомадила, глаза насурьмила – чёрные да узкие, как у дикой тунгуски, корольки на шею наздевала в три нитки, и пошла трясти подолом, мужиков сомущать…»
Топорно рубленный в охряп, скуластый, в чёрном коробистом пиджаке, на лацкане которого алел знак «Ударник коммунистического труда», Еремей стеснительно мялся с ноги на ногу подле стола, тряскими руками скручивал в жгут фуражку с долгим, похожим на клюв, жёстким кондырем. Мысленно бранил себя: «От чучела замшелое, от чухонь, и кого начепурился?! Ещё и фурагу американскую напялил; смешно смотреть, сидит на башке, как седёлка на корове…»
Похожая на сову дива пучеглазая вальяжно посиживала, растёкшись крупом на вертлявом стуле, и, не глядя на мужика, кроваво крашенными коготками скребла бумажную гору, лениво листала бумаги. Над её лохмами в бурой, слизистой раме висел кичливый, горделивый президент, вылитый тать придорожный, атаман разбойный. Еремею почудилось: глаза президента, как у быка необлегчённого, вспучены хмельной удалью; и отчаянные, мутные думы забродили в Еремеевой голове; но если, обличая варнака придорожного, поведать мысли книжным слогом, думы горемычного простеца обрели бы эдакую обличку…
Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 146