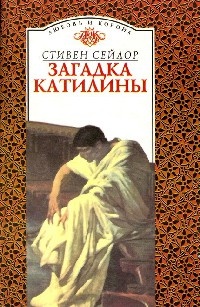— Очевидно. И кто же купил поместья старика?
— Говорят, у него было тринадцать имений. Старый Капитон был, пожалуй, первым в очереди, потому что ему достались три самых лучших поместья, включая и старинное родовое гнездо. Говорят, он сам вытолкал молодого Секста прочь, буквально вышвырнул его за дверь. Но все чин-чинарем: теперь это его собственность; он предложил за нее больше всех на государственном аукционе в Риме.
— А другие имения?
— Их все скупил какой-то богач из Рима; не припомню, чтобы когда-нибудь слышал его имя. Может, он даже носа не показывал в Америи — еще один городской помещик, скупающий землю в деревне. Наверняка такой же, как и твой наниматель. Ну да это не наша забота. Это был последний лакомый кусочек, но его уже прибрали к рукам. В Америи хорошей земли не найдешь, отправляются дальше.
Я посмотрел в открытую дверь. Веспа была привязана, и ее хвост отбрасывал причудливую, длинную тень, беспокойно подрагивавшую на пыльном полу перед входом. Тени удлинились; день быстро догорал, и я не знал, что буду делать ночью. Я достал несколько монет из кошелька и выложил их на стол. Трактирщик сгреб их и исчез в узком проходе в дальнем конце лавки, повернувшись боком, чтобы протиснуться внутрь.
Старик повернул ко мне голову и, заслышав шум, навострил уши.
— Скареда, — пробормотал он. — Получив монету, он спешит запрятать ее в свой сундучок. Каждый час должен их пересчитывать, никак не может дождаться закрытия. И всегда был жирной, жадной свиньей. Он сын своей матери, не мой, это сразу видно.
Я тихо шагнул к двери, но, как оказалось, недостаточно тихо. Старик вскочил и закрыл собой проход. Казалось, он всматривался мне в лицо сквозь молочную плеву, застилавшую его глаза.
— Послушай, незнакомец, — сказал он. — Ты здесь не для покупки земли. Тебя привело сюда это убийство, а?
Я попытался придать лицу безразличное выражение, но сообразил, что в этом нет нужды.
— Нет, — ответил я.
— На чьей ты стороне? На стороне Секста Росция или его обвинителей?
— Я же сказал тебе, старик…
— Хорошенькая загадка, а? Государство вносит старика в проскрипционные списки, а затем его же сына обвиняют в преступлении. И разве не странно, что выгоду из этого извлекает старый паскудник Капитон? Еще более странно, что этот Капитон первым во всей Америи прознал об убийстве, что с известием об этом к нему посреди ночи отправился Главкия, которого мог послать только один человек — этот мерзавец Магн. Как мог он узнать о случившемся так быстро и зачем он направил гонца и как к нему попал окровавленный кинжал? Тебе все ясно, не так ли? Так ты, по крайней мере, думаешь.
Мой сын говорил тебе, что молодой Секст не виновен, но мой сын — дурак, и ты окажешься дураком, если его послушаешь. Он говорит, будто слышит все, что говорится в этой комнате, но он не слышит ничего; он всегда слишком занят болтовней. Только я все слышу. Десять лет, с тех пор как я потерял зрение, я только и делаю, что учусь слушать. До этого я никогда ничего не слышал: я думал, что слышал, но я был глух, как и ты, как глух всякий зрячий. Ты не поверишь, как много я слышу. Каждое слово, произнесенное в этой комнате, иногда даже то, о чем молчат. Я слышу то, что другие шепчут себе под нос, хотя они даже не подозревают, что их губы шевелятся, что из их уст вылетает дыхание.
Я тронул старика за плечо, думая мягко его отстранить, но он стоял неколебимо, как брус железа.
— Секстов Росциев, и отца и сына, я знал много лет. И дай мне сказать, пусть это покажется невозможным, какие бы доказательства ни были у тебя в руках, за убийством отца стоит сын. Как они друг друга ненавидели! Это началось, когда Росций взял себе вторую жену, и она родила ему Гая — сына, которого он портил и баловал до самой его смерти. Я помню день, когда он принес младенца в этот трактир и всем в комнате давал подержать своего хорошенького златовласого мальчика, да и где на свете найдешь человека, который не гордился бы новым сыном. А в это время молодой Секст стоял в дверях — забытый, брошенный, весь раздувшийся от ненависти, точно жаба. Тогда у меня еще были глаза. Я не помню, как выглядит цветок, но по-прежнему вижу лицо юноши и его глаза, в которых застыла жажда убийства.
Мне показалось, что я слышу шаги трактирщика, и я оглянулся.
— Смотри на меня! — пронзительно закричал старик. — Не думай, что я не знаю, когда ты отворачиваешься: я знаю об этом по звуку твоего дыхания. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю! И выслушай правду: сын ненавидел отца, а отец ненавидел сына. Год за годом в этой самой комнате я чувствовал, как растет, как нагнаивается ненависть. Я слышал слова, которые оставались непроизнесенными, — слова гнева, обиды, мщения. И кто поставит им это в упрек, особенно отцу — иметь такого сына, такую неудачу, такое разочарование. Жадная маленькая свинья — вот чем он стал. Жадный, разжиревший, непочтительный. Вообрази, какая тоска, какая горечь! Разве удивительно, что мой внук никогда не навещает своего отца? Говорят, Юпитер требует, чтобы сын повиновался отцу, а отец — своему отцу, но какой порядок может быть в мире, где люди слепнут или жиреют, точно свиньи? Наш мир разрушился, погиб, и нет ему избавления. В нем так темно…
Устрашенный, я шагнул назад. В следующее мгновение толстый трактирщик отпихнул меня в сторону, схватил старика за плечи и убрал его с прохода. Я вышел на улицу и посмотрел назад. Молочно-белые глаза старика были прикованы ко мне. Он продолжал что-то бормотать. Его сын отвернулся.
Я отвязал Веспу и сел верхом; через оставшуюся часть Нарнии и через мост я проскакал так быстро, как только мог.
Глава семнадцатая
Казалось, Веспа не меньше моего была рада оставить Нарнию позади. На последнем отрезке дневного пути я упорно ее подгонял, но она скакала без жалоб. Когда мы достигли развилки прямо к северу от Нарнии, она не выказала ни малейшего желания остановиться.
На скрещенье дорог стояла общественная поилка. Я не спеша напоил лошадь, после каждых нескольких глотков натягивая поводья. За поилкой стоял примитивный указательный столб — насаженный на палку козлиный череп. На побелевшем лбу кто-то нарисовал стрелку, указывающую налево, и приписал слово АМЕРИЯ. Я свернул с широкого Фламиниева пути на боковую америйскую дорогу — узкую тропу, петлявшую в направлении седловины крутой горной гряды.
Дорога пошла вверх. Веспа начала наконец уставать, и подергиванье задней части ее корпуса заставляло меня скрипеть зубами. Я наклонился вперед, поглаживая ее шею. По крайней мере, дневная жара мало-помалу рассеивалась, и мы двигались под прохладной сенью горного кряжа.
Неподалеку от вершины я догнал группу рабов, обступивших повозку и помогавших быку втянуть ее на гребень горы. Телега кренилась, качалась и в конце концов достигла ровного места. Рабы прислонились друг к другу; кто-то облегченно улыбался, усталые лица других не выражали ничего. Я подъехал к вознице и подал ему знак рукой.
— И часто вы совершаете такие прогулки? — спросил я.