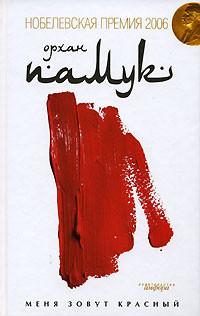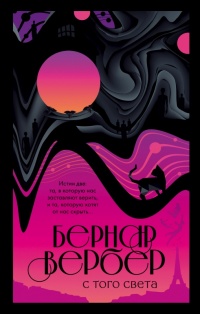– Что?
Она протирает глаза.
– Ну и видок у тебя.
– Спасибо.
– Правда-правда.
– Что нового?
Она нюхает воздух и давится, высовывал язык, чтоб меня рассмешить, и ей всегда это удается.
– Слушай, у тебя покопались в кишках.
Она пытается сесть и морщится. Потом кладет руки на живот.
– Не трогай!
Я смахиваю ее руки со швов, и шум привлекает внимание медсестры, идущей по коридору. Она просовывает голову в палату.
– У вас все в порядке?
– Да, спасибо. – Я улыбаюсь, потом опять смотрю на Жизель. – Я тебе говорю, это серьезно.
– Значит, острого больше нельзя?
– Это еще самая мелкая из твоих проблем. Слушай, врач говорит, что ты потеряла много крови. Тебе надо быть осторожной. Надо есть, Жизель, накапливать какие-то резервы.
– Выходит, я еще не умираю? – Жизель улыбается.
– Откуда такие патологические мысли?
– Не знаю. Спроси у Томаса.
Она на минуту отворачивается, откашливается, потом просит свой дневник.
– Он в ящике.
Я тянусь, чтобы открыть его, но потом даю ей минуту повозиться. Она слишком слаба, чтобы сесть в кровати, и выгибается, чтобы достать до ящика. Во мне есть что-то болезненное, из-за чего я ей не помогаю. Наконец это что-то ломается во мне, моя сестра ломается во мне, моя чертова сестра, она кажется такой маленькой, как полумертвые больные СПИДом, которые, волоча ноги, спускаются по лестнице и дымят сигаретами. Леди и джентльмены, вот моя сестра. Я протягиваю ей дневник.
– Ты и учебники мои принесла?
Она вся загорелась, потому что мы принесли ее медицинские книги: схемы, графики, сведения, которые Жизель проглатывает страницу за страницей. Она завидует, наверное, жалеет, что не могла прооперировать сама себя.
Она открывает дневник в середине, на чистой странице, потом просит ручку. Я выхожу в коридор, прошу у медсестры розовую ручку, висящую у нее на шее на шнурке, и приношу ее Жизель. Она что-то исступленно записывает и останавливается.
– Врач сказал, что у тебя еще будут дети.
Она резко поднимает на меня глаза:
– Чепуха. Ничего такого он не говорил.
– Ладно, ты права, не говорил.
Она смотрит в окно. От того, как падают на нее приглушенные лучи из-под облаков, мне хочется ее сфотографировать. У Жизель осунулось лицо, но она по-прежнему красива. Неудивительно, что Сол сидит здесь по четыре часа, считая зеленые тени на се лице.
– У меня есть друг, – ни с того ни с сего говорю я, сама не понимая зачем.
Жизель зубасто улыбается и закрывает тетрадь.
– Ну-ка, ну-ка, расскажи мне про него.
Когда я возвращаюсь после обеда, Жизель спит, у окна ее палаты стоит Сол и разговариваете голубями на карнизе. Я тяну его за край незаправленной рубашки. Он оступается и хватает меня за локоть, чтобы удержаться.
– Эй, ты меня до смерти напугала, – шепчет он, у него красные и мокрые глаза.
Такое впечатление, что его лицо в белой пудре, а губы рубинового цвета и обветрены. Такое впечатление, что кто-то ему вмазал, но, видимо, он просто не спал.
– Как она сегодня? – спрашиваю я, наклоняясь над Жизель.
Он пожимает плечами и оглядывается на голубей.
– Не знаю.
Он шагает по комнате.
– А ты как поживаешь, Сол? Вообще.
– Паршиво, Холли. Ношу кофе, копии… солдатская работа, пара анонсов… ну и это, у меня есть это.
Если его нет здесь, значит, он на работе, или в машине, или у отца, делает обычные дела: курит, пьет, пишет заметки и всякую ерунду для газеты, думает о Жизель, беспокоится.
– А ты как? – тихо говорит он, не отводя красных глаз от Жизель, которая пытается повернуться в постели.
– Да нормально, пожалуй.
Он отходит от кровати; берет меня за руку, потом притягивает к себе и обнимает сзади. Крепко. Я чувствую затхлый запах табака, пота и снова сандалового дерева.
Он говорит мне на ухо:
– Я помню, как в первый раз увидел, как ты играешь в баскетбол. Жизель привела меня на какую-то твою игру, у тебя рука болела.
– Я потянула руку, когда играла в волейбол.
– Да, и только что постриглась. У тебя волосы стояли дыбом, такие короткие. Ты постоянно вытирала нос и всю игру кричала на мяч. Ты хорошо бросала.
– Сорок очков выбила.
– Да, сорок очков. Она все время сидела рядом и кричала до посинения. Честное слово, она наставила мне синяков, потому что постоянно толкала меня в бок и приговаривала: «Это моя сестра, разве не классная?» Холли, ты была такая хорошенькая в зеленых шортах и желтой баскетбольной майке в сеточку. Я не знал тогда, кого больше любил, ее или тебя.
Он смеется.
– Сол, ты извращенец. Я отталкиваю его.
Я смотрю в его черные глаза и вижу отражение того, кем она когда-то была. Я вижу их неслучившееся завтра, блестящее серебром, призрак ее духа, отбрасывающий свет на тусклую больничную палату.
Я вижу открытые и просторные поля с белыми цветами, страны, в которые они могли поехать, вина, которые они могли пить, гранатовый сироп, пролившийся изо рта, Сол вдувает дым ей в рот и говорит: «Ой, Жизель, ты самая красивая женщина во всем мире, милая, лучше тебя у меня никого нет. Каждую ночь в твоих руках я могу взрываться, как бензиновый пожар, и никому не будет дела, кроме тебя, и я не против, если мы сгорим вместе и не сегодня».
И в черных кругах вокруг его глаз я вижу и тяжелые времена, ее руки, взлетающие, чтобы погладить его по голове, вытекающую из нее кровь, ее лекарства, его пьянки, скандалы, ссоры, ее в больничной палате. Я вижу их вместе, они одеты, как жених и невеста, они скрипят зубами от смеха, идут вперед, как в замедленной съемке, а какой-то большой оркестр следует за ними и фальшиво играет. «Ты идешь?» – говорит он, протягивая ей руку, нарушая молчание парада.
Жизель стучит пальцем по простыне, как будто слышит все это. Хотя еще только середина утра, Сол уже весь вымотан. Его тело обмякает, и он еле плетется к тяжелой зеленой двери.
– Давай я тебя подброшу до дому, если хочешь. Мне только нужно будет сначала заехать в редакцию, взять кое-что для заметки. – Он сжимает и разжимает зубы и проводит рукой по бумажному лбу Жизель. – А потом можно заехать за мороженым и привезти Жизель. Купим ее любимое, клубничное.
Я сжимаю ее руку и целую ее.
– Останься сегодня со мной, Холли, мне не хочется быть одному. Что скажешь? – Он медленно улыбается, как будто от улыбки ему больно.