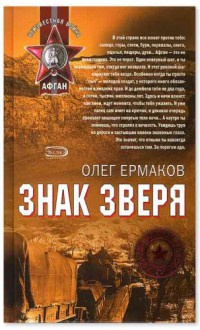Ознакомительная версия. Доступно 29 страниц из 144
Эх, почему же не товарищи панцирной хоругви отправились сегодня по той дороге!..
В следующий свободный вечер Николаус пошел до того перекрестка, откуда можно было спуститься на улицу Зеленый ручей, и направился дальше мимо церкви, высоких заборов и оград пониже, хлипких, за которыми стояли все деревянные дома, иные и в два яруса. Это было, конечно, совсем не похоже на улицы его родного Казимежа Дольны, с каменными домами, вымощенными камнем же дорогами. Здесь было царство дерева. Отовсюду доносились крики домашней птицы, да и пахло густо домашней живностью. Иногда улицу перекрывал благоуханный ковер навозной жижи, и шляхтичу приходилось идти по самой бровке, прыгая, как в болоте, с кочки на кочку. В домах за оградами то стучал топор, то скрежетала ручная мельница, слышно было, как сильно скребут нечто, может и шкуру. Курились дымки. Но все-таки большинство дворов как будто спали или таились… Как вдруг враз ожили и зашевелились, будто темные дремучие раки в ручье, почуявшие то ли опасность, то ли добычу. Николаус оглянулся: по боковой улочке, откуда-то со стороны башни с Elenevskimi воротами поднималась густая пыль, вверху, над домами, высвеченная вечерним солнцем. По мычанию, блеянию и тяжким вздохам, как будто сотрясавшим все вокруг, Николаус догадался, что это возвращается стадо с пастьбы. Тут залаяли собаки, раздались удары бича, заголосили призывно хозяева, зазывая своих коров, овечек. Животных домашних тут все содержали, пробавляясь млеком, шерстью и мясом. Да и навоз на огородах был надобен. В Казимеже Дольны тоже заводили и кур, и свиней, но все же там больше было тех, кто ведал какое-либо ремесло или торговал. А сей Smolenscium был поистине сельским. Magnus vicus[139].
И сейчас эта vicus валила с блеянием и ревом по улочке. Николаус немного растерялся. Хозяева забирали своих коров, уводили их во дворы. Но стадо все еще было внушительным. Пастухи шли где-то позади… А впереди брел угрюмый черный бык с белым пятном на лбу. Николаус сразу подумал, что хорошо бы и всадить в пятно пулю. Но пистоля при нем не было, только сабля. И сейчас он положил руку на эфес… Экая глупость-то будет, подумал он, озираясь, куда бы отступить. Но и справа, и слева были заборы. А бык, пыхтя, шел напролом, сбоку трусили овцы. Уступить этому смоленскому зверю? И ведь проклятое животное как будто уже и наметило фигурку в вишневом жупане, с рогатывкой на голове, с пером… И бык вдруг заревел, свирепея, и хлестнул себя по пыльным бокам сильным хвостом. Из окон повысунулись головы баб и ребятишек. Николаус уже потащил саблю из ножен.
Да тут послышался нежный мелодичный голос: «Івашка, Івашка, охлынь, перастань яриться, ідзі, ідзі да сябе»[140]. Николаус оглянулся. То была внучка Петра-травника, он узнал ее. На ней была серая длинная рубаха, а сверху сарафан цвета как раз вишневой смолы, что ли, с желтой нитью по низу. Волосы заплетены в косу с лентой, как это обычно у незамужних молодых девушек, и не покрыты. Глаза ее были серыми, большими. В ушах покачивались серьги, остро сверкая празеленью. В руке она держала прутик.
И черная гора с белесыми на концах рогами, еще хлестнув себя хвостом, поуспокоилась, присмирела, хотя глазом и косила враждебно на бедного шляхтича, уже сообразившего, что вряд ли его сабелька сии рога одолеет. Девушка подошла ближе и стала рядом с молодым паном в рогатывке с пером, так что, когда бык дошел, то она оказалась между ними. «Івашка, Івашка», — говорила она, поднимая руку и вытягивая к быку навстречу ладошку. И зверь внезапно повел башкой, потянулся к ней, лизнул, и девичья ладошка легла на широкий лоб, так что бык на мгновенье прикрыл свои темные выпуклые глаза.
— Асцярожна, паненка![141] — сказал Николаус, чтобы не стоять здесь полным дураком, столбом.
Она с легкой улыбкой оглянулась на него.
– Івашка, ну, ідзі, ідзі да дому, — проговорила она ласково, похлопывая быка уже по толстой шее.
Вблизи бык оказался не таким черным, а скорее густо пегим… Но уже как прошел подальше — снова потемнел.
— А я бачыў цябе, паненка, на Барысфенам, з кветкамі[142], — сказал Николаус.
Девушка оглянулась на него и вдруг спросила:
— Гэта ваша светласць ботаў страціў?[143]
Николаус вспыхнул и ответил, что то был его друг Любомирский, решил уступить обувь ради гнезда ракам. Девушка прыснула в ладошку и сказала, что теперь, видно, надо поискать ту рачевницу.
— Ох, баюся, тыя ракі перадохлі[144], — пошутил Николаус.
Девушка уже засмеялась в голос, но тут же оборвала смех, быстро оглядываясь по сторонам, и поспешила дальше навстречу стаду. Вскоре она уже шла назад рядом с пегой коровой, за коей трусили козы. А шляхтич все стоял на том же месте. Они взглянули друг на друга. Потом мимо прошли и два пастуха, парни в войлочных шапках, портках, разбитых сапогах, длинных, подпоясанных рубахах, с бичами на плече, густо загоревшие, лохматые, покосились на черноусого светлолицего шляхтича и стащили свои шапки. Он с ними кивком поздоровался.
Идти следом за девушкой он раздумал, так и пошел по той улочке и в конце концов оказался у башни с вратами, а там повернул и направился по другой улице вдоль зеленого оврага к дому пана Плескачевского.
Один двор был особенно пахуч. Здесь жил скорняк, в чанах у него дубились шкуры лошадиные, свиные и прочие; тут же и скоблились его сыновьями, промывались, сушились, мялись колотушками. Хорошо хоть двор пана Плескачевского не соседствовал с этим двором Кривого Пахома-скорняка. Правда, ветер иногда доносил сей зловонный дух. Николаус постарался побыстрее одолеть вонючий участок улицы. Вообще мастеровые всё жили ниже, на Зеленом ручье, да вдоль стены, на Георгиевском ручье, а этот как-то затесался промеж живущих на горах. «Надо бы его скинуть в овраг», — ворчал пан Григорий. И скинул бы, да неловко было, из-за того что именно он и обрабатывал все охотничьи трофеи пана Григория, медвежьи шкуры, лосиные да волчьи. Кривой Пахом был лучшим скорняком в сем граде.
Взобравшись на повалушу и никого не найдя там, Николаус взял лютню и пустил пальцы по струнам. Его воображение все больше занимала эта какая-то чудная девчушка…
— Et iris, — бормотал он, пробуя на вкус сие имя.
И ведь не только посреди цветущего склона на Борисфене это имя было ладно, но и на той улочке грязной, мычащей — даже еще пуще как-то лучилось… Да не имя, а сама девушка. В первый момент, когда она только заговорила — не со шляхтичем, а с быком тем страшенным, — ее глаза показались серыми, чуть с голубизною, как небо в полдень над Вислой. Но потом Николаус с удивлением обнаружил, что у нее густо синие глаза, цветом в одеяния Девы Марии в церкви на холме его родного Казимежа Дольны. А при последнем перегляде с нею эти глаза уже как будто зеленели. Возможно ли такое?
Ознакомительная версия. Доступно 29 страниц из 144