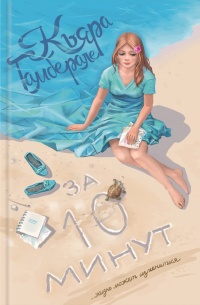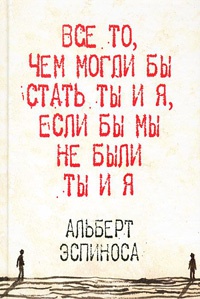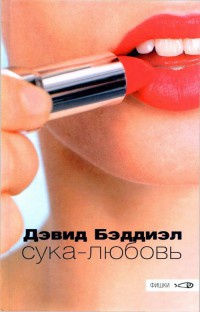— А ты как думаешь, Габриель? — многозначительно интересуется Саймон.
Еще один любитель подчеркивать слова. Только иного рода: если Фрэн с Ником подчеркивали слова, намекая на глубину невысказанного, то Саймон выворачивает все шипами наружу, шлифует слово, показывая свое серьезное отношение к тому, что лежит на поверхности.
— Есть немного, — говорю я, выждав паузу и тщательно все обдумав, — Дина — крашеная блондинка. Формы несколько более округлые. И выше сантиметров на пять, пожалуй. Так?
Лучше я ответить не мог. Нос у нее длиннее на четыре-пять миллиметров, угол изгиба рта на шесть градусов больше, глаза процента на четыре уже, щеки чуть больше, грудь… я никогда не видел твоей груди, Элис, но могу предположить, что у нее она как минимум на размер меньше, и, ты уж извини, нам придется голыми прижаться друг к другу, чтобы я смог точно определить различия в текстуре кожи — ответь я так, меня можно было бы заподозрить в нездоровой осведомленности о предмете разговора.
— Не совсем, — возражает Элис. — Ты, наверное, забыл, что она носит эту неимоверную платформу?
Нет, конечно — это сознательно допущенная неточность. Поднеся чашку ко рту, я закрываю глаза, причмокиваю и только после этого с улыбкой делаю глоток. Беспросветно унылое ощущение на языке не оставляет сомнений в том, что Элис, как всегда, забыла положить сахар. Я так безмятежно радовался нашему тайному союзу, а он был сведен на нет Элис, которая никак не может запомнить, что чай я пью с сахаром, а кофе — без; это одна из тех мелочей, которые она бы точно помнила, будь мы вместе. Лучше меньше, да лучше: пусть бы она ничего не знала о моих злоключениях с Ником, но помнила, что чай я пью с сахаром, а кофе — без.
— Она носит сапоги на платформе? — смеется мама. — Я такие сапоги двадцать лет назад носила!
На маме зеленые лыжные штаны и красный свитер с вышитым на груди изображением «Гинденбурга». С двадцатью годами она, конечно, погорячилась, имея в виду лет одиннадцать — до середины восьмидесятых она одевалась как на съемки порнофильма. (Я говорю о классическом порно с плохим звуком: усатые мужчины, женщины в разорванных вечерних платьях, длинные бархатные шторы, секс в лесу или сауне — не совсем то, чем я увлекаюсь.) Она повыкидывала большую часть комбинезонов с расклешенными штанинами и лоскутные брюки с заниженной талией как раз тогда, когда все это опять вошло в моду — не исключено, именно оттого, что мама повыкидывала все это.
— Элис, ты не могла бы сахар передать? — прошу я.
— Что вы! Платформа снова в моде, Айрин! — восклицает Саймон. — Так она любительница ходить по клубам?
Он специально задает вопрос так, чтобы вызвать замешательство среди нас: кто же должен служить источником информации о Дине? Мы втроем переглядываемся. Все очевидно. В данном случае знать — значит обладать; кто первым заговорит, тот тем самым будто скажет: «Она моя».
— Мне пора, — слышим мы голос незаметно подошедшей Милли Гильдарт.
В своем черном пальто и берете она похожа на члена воинствующего крыла Партии пенсионеров. Мы собираемся встать.
— Господи, да не вставайте вы, — просит она. — Не обязательно вставать при прощании. Разве только при встрече.
Она подходит к маме.
— Пока, Айрин.
— Милли, а ты на машине поедешь? — спрашивает мама.
В ее голосе слышится легкий укор, с помощью которого люди зачастую изображают заботу о пожилых.
— Какой машине?
— На такси. Подожди, я сейчас вызову тебе такси.
— Да перестаньте вы все вставать! Я на автобусе доеду.
— Но тогда придется делать пересадку в Голдерс Грин!
— Айрин, перестань! Никто меня там не ограбит. Господи, это ж Голдерс Грин, а не Бронкс.
У нее вид человека, только что отказавшегося от абсолютно бессмысленного предложения.
— Пока, Бен. Пока, Элис.
— Пока, Милли. Мы обязательно как-нибудь зайдем вас навестить.
— Ага, конечно, — язвительно откликается она.
Бена это слегка задевает, и на мгновение кажется, будто он хочет объяснить, что пусть раньше он и говорил это из вежливости, но на этот раз говорит серьезно.
— Пока, Саймон. Мы опять не побеседовали. Да и в прошлый раз тоже.
Саймон хватает ее ладонь обеими руками и смотрит прямо в глаза.
— В следующий раз обязательно побеседуем, — обещает он.
— Не знаю, будет ли этот следующий раз.
— Милли! Не смейте так говорить. На небеса вам еще рано.
— Почему это? — спокойно спрашивает Милли. — Разве там ввели возрастной ценз?
Саймон краснеет, будто ему специальную инъекцию сделали, и застывает в позе пловца на старте.
— До свидания, Габриель, — говорит она. Потом замирает и, щурясь, спрашивает: — Тебя же зовут Габриель?
— Да, — отвечаю я.
Она кивает и наклоняется ко мне, так что наши щеки соприкасаются. Такое впечатление, что это не щека, а книга для слепых.
— В моем возрасте, — шепчет она, — из-за света с глазами начинает твориться что-то совершенно непонятное.
Она целует меня и, даже не удосуживаясь еще раз взглянуть, медленно идет прощаться с Мутти, сидящей на другом диване.
— Да уж, — улыбается мама, покачивая головой, — удивительные вещи говорит эта старушка.
Все кивают, делая вид, что соглашаются, только Саймон в тихой ярости глядит на свой кусок торта.
— Так о чем мы говорили?
Повисает короткое молчание.
— О Джероме Мэндле, — радостно отзывается Бен.
— Разве? — сомневается мама.
Она на мгновение задумывается.
— В общем, в его книге о первом рейсе в Люцерну — только не говорите ему об этом — слишком много глупых ошибок. Каюта капитана на левом борту? Здравствуйте, приехали!
Пока Саймон дуется, можно не опасаться, что кто-то поставит меня в щекотливое положение, наведя маму на мысли о Дине. Я смотрю в сторону другого дивана, где Мутти и Милли стоят друг напротив друга, как два безбородых гномика.
— До свидания, Ева, — говорит Милли.
— До свидания, Мириам, — отвечает Мутти.
Руки их на мгновение соприкасаются. Я замечаю, что Милли прощается с Мутти не так, как с остальными, — более сдержанно, вкладывая больше смысла; они обмениваются понимающим взглядом знающих людей, не самодовольным и не надменным, а именно понимающим взглядом и именно знающих людей, причем в самом прямом смысле этого слова — это взгляд людей, обладающих неким знанием; я вдруг начинаю осознавать, что они прощаются особенным образом, это прощание двух пожилых людей, которые живут довольно далеко друг от друга и поэтому не могут часто видеться — это, пожалуй, противоположность нашим беспечным, так легко слетающим с языка «увидимся» или «до скорого». С возрастом все слова изменяют свое значение, но сильнее всего, наверное, изменяется значение прощаний; только представьте: вы каждый раз с кем-то расстаетесь, понимая, что, возможно, в последний раз. Я слышу это сейчас, в сдержанности, в паузах — зов вечности.