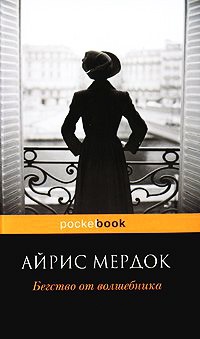— Не за что. Я рада вас повидать.
— Может быть… может быть, чаю?
Алекс выпила бы виски с содовой, но вспомнила, что философ — трезвенник.
— Нет, спасибо, — ответила она.
— Или кофе… кажется, у меня есть кофе…
— Нет, спасибо.
— Простите, — сказал он, — я не пью, в доме больше ничего нет. Присаживайтесь, прошу вас.
Алекс присела на ручку кресла, подняв небольшое облачко пыли.
— Какой хорошенький садик, такой маленький… и с ним так легко управляться, — Возникла небольшая пауза, и Алекс добавила: — Джордж, наверное, был очень рад вас видеть.
Джорджа она упомянула исключительно потому, что нервничала, — она не собиралась о нем говорить.
— Да-да.
Джон Роберт тяжело сел в другое кресло, потом, обнаружив, что оказался почти на уровне пола, выбрался оттуда, сопя, с некоторым затруднением, и сел на скрипучий стул, который угрожающе зашатался.
— Вам нравится дома? — спросила Алекс.
Джон Роберт серьезно обдумал этот вопрос.
— Да. Я многих узнаю в лицо, в лавках и тому подобное, они переменились, конечно. Моим родителям тут нравилось, в этом районе жили очень приятные люди.
— После Америки Эннистон, должно быть, кажется очень маленьким и тихим.
— Он очень приятно маленький и тихий.
Алекс уставилась на Джона Роберта, который на нее не смотрел, и сердце ее затрепыхалось. Большая голова философа ушла в воротник пиджака, и он был похож на горбуна. Алекс видела грубую пористую кожу, сильный нос, похожий на клюв хищной птицы, и обвислые припухшие губы, большие и влажные. Ей захотелось протянуть руку и коснуться — не колена, а лоснящегося дешевого материала брючины.
— Миссис Маккефри…
— Пожалуйста, называйте меня Алекс. Мы так давно друг друга знаем.
— Да, я хотел вас кое о чем просить.
— Да? — Алекс уставилась на него так, словно хотела взглядом раздавить в лепешку и пришпилить ее булавкой к стене.
— Только скажите откровенно, если вам не понравится мое предложение или если захотите подумать…
— Да?
— А может быть, это вообще невозможно. В конце концов…
— Да-да?
— Я хотел спросить, — сказал Джон Роберт, — не будете ли вы так добры сдать мне в аренду Слиппер-хаус?
Алекс настолько не ожидала именно этого (а чего она вообще ожидала?), что не смогла ответить сразу, не могла даже непосредственно осознать сказанное или собраться с мыслями, чтобы понять, обижена ли она, разочарована ли… хотя какое она имеет право? Но что же все это значит?
— О, простите, я вижу, что вы не хотите принять мое предложение.
— Напротив, — решительно сказала Алекс. — Хочу, я с огромным удовольствием сдам вам Слиппер-хаус…
— Но может быть, вы хотите подумать…
— Я подумала. Я с удовольствием сдам его вам.
— Я думал, что, может быть, там кто-то живет.
— Нет-нет, он пустой. Мне некого… там, может быть, сыровато… я включу отопление… и там мало мебели — есть, конечно, кровати и стулья, но…
— Прошу вас, не утруждайте себя. Я могу сам доставить все необходимое.
— Какая замечательная идея! — сказала Алекс, у которой уже заработало воображение. Ей открылась совершенно захватывающая картина, полная заманчивых возможностей. — Быть может, вы хотите прямо сейчас отправиться туда и я вам покажу дом?
— Нет-нет, спасибо. Пока не нужно. Я просто хотел знать, сдается ли он.
— О да, о да, он сдается.
— Спасибо.
— Вы, наверное, собираетесь там писать свой великий труд? — спросила Алекс, — Там очень тихо. Я прослежу, чтобы вас никто не беспокоил. Я могу вам готовить…
— Я дам вам знать, если не возражаете, когда… А вы мне сообщите размер арендной платы, условия…
Алекс не позволила себе закричать, что никакой арендной платы не надо. Она сказала:
— Мистер Осмор все устроит, я попрошу его написать вам.
Джон Роберт поднялся на ноги. Разговор был явно окончен.
Алекс пожалела, что отказалась от чая. Она тоже встала, надела большую мягкую шубу и затянула металлический поясок на одно звено потуже.
— Ну хорошо, увидимся.
— Да, спасибо, что пришли.
Еще мгновение — и Алекс оказалась на ветреной улице, уже не заботясь, что волосы растреплются. Она шла упругой походкой, сунув руки в карманы. Сначала она улыбнулась, потом рассмеялась.
— Боже Всевышний, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Создатель всей твари, Судия всех человек, мы признаем сколь велики грехи наши, сокрушаемся, сколь безмерно зло, что до сего дня и часа совершили, делом, словом и помышлением, против Твоего Божественного Величия, и тем по заслугам навлекли Твой праведный гнев и негодование. Мы от всей души каемся и раскаиваемся в своих прегрешениях, самое воспоминание о них нам прискорбно, бремя же их невыносимо…
Диана произносила эти серьезные и ужасные слова, смиренно преклонив колени в сумраке церкви Святого Павла, в Виктория-парке, на стылой, полной сквозняков восьмичасовой литургии (в будни на этой службе было совсем немного народу). Со времен детства она произнесла эти слова бесчисленное множество раз, обточила их языком и губами до полной гладкости, но не до потери веса. Гнев Божий ее мало заботил, ибо, даже не думая, она знала, что ничего подобного не существует. Бремя грехов — другое дело; оно на самом деле есть, и скорбные воспоминания тоже, и боль, и ущерб, и раскаяние.
Джордж не показывался уже неделю. Она чувствовала себя бессильной, как бывает во сне, когда мышцы не желают напрягаться, руки и ноги — служить. Ее словно пригвоздили к позорному столбу на виду у всех, и все пялятся, смеются, перешептываются. Ей каждый раз приходилось собираться с духом, чтобы выйти в Купальни, в магазины, в церковь, чтобы продолжать соприкасаться с жизнью, с последними невинными занятиями — плавать, ходить по магазинам, молиться. Вчера в Боукоке вдруг погас свет — перебои с электричеством. Внутренность магазина, огромные пространства, куда едва проникал дневной свет, внезапно заполнил сумрак, густой, словно туман. Диана в это время вертела в руках какую-то побрякушку, которую не собиралась покупать, и резко положила ее обратно. Она стояла в проходе, наблюдая за движениями призрачных фигур, и ураган страха поднялся в душе, словно ее несло в ад. Она любила Боукок, где когда-то работала; тут было безопасно, тепло, пестро и ярко, тут было разрешено бродить, ничего не опасаясь. И такое внезапное превращение показалось ей зловещим. Она в панике поспешила наружу, толкая встречных, на глаза уже наворачивались слезы.
Ее терзали два противоположных порыва. Ей хотелось бежать, погрузиться в «новую жизнь», которую обещал молитвенник. Мысль о побеге, о совершенном изменении жизни подкреплялась представлением об ослепительном счастье: одна, сама по себе, где-то там, где нет никакого секса и никаких мужчин, где не придется делать ничего из того, что она делает сейчас, — этого уже довольно. К несчастью, за этими мечтаниями не стояло ни плана самого побега, ни поиска такого плана. С другой стороны, ее любовь к Джорджу, кажется, становилась тем больше и чище, чем болезненней было положение. Быть может, за страдания положена какая-то моральная премия. Если бы только у любви был путь, пространство, место, способ войти, хоть какая-то благословенная простота.