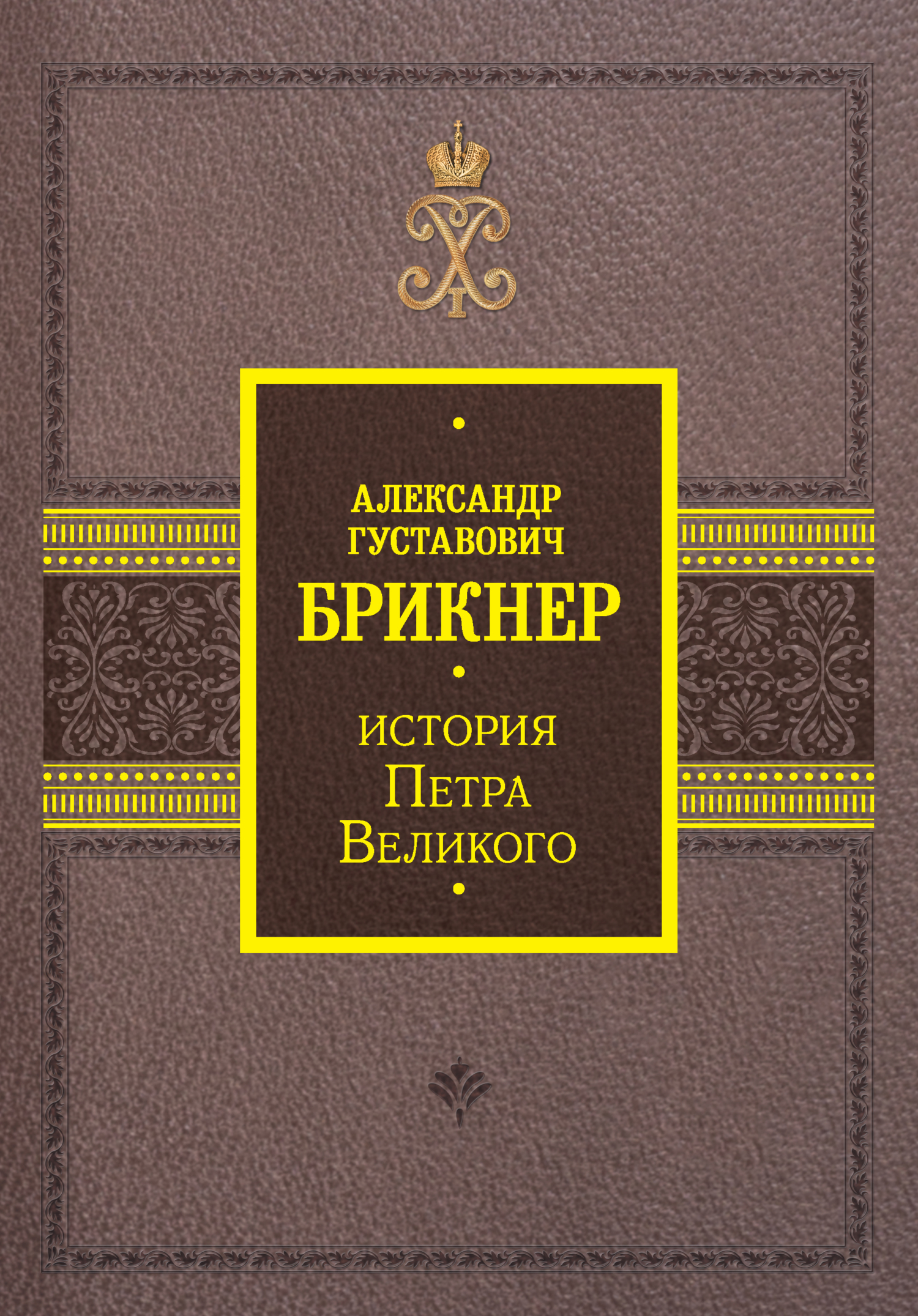красующееся напротив памятника. Представил: если б сместись время на три с лишним века, как проснулся бы он однажды во дворце и увидал, что Москву ему застит сия громада.
– Решили бы, что без нечистой силы здесь не обошлось! Она сей парус развернула.
– И правда, на парус похоже! – хмыкнул Толик. – Испортил бы он тогда все!
Зацепили его слова Петра за душу. Обнял он своего возничего за плечи, повернул в сторону Яузы.
– Красота здешняя была, не чета нынешней! Вид какой, Москва вдали! Простор! Река внизу блестит, рыба плещется, на лугах стада пасутся. Куда ни глянь – везде глазам отрада! И первые корабли тут строить зачинали. Двадцать две галеры по голландскому образцу. На Азов на них плыли. К победе русского флота на этих берегах путь начинался! Токмо мы тогда о том не ведали! – Петр отвернулся и смахнул слезу. Чтобы скрыть эмоции, сказал: – Отсюда и Покровское-Рубцово видать было, и Семеновское и золото купола Ивана Великого.
Толик замер, воображение живо нарисовало картину. Пастух стадо пригоняет, скотина, подходя к своему двору, голос подает хозяину. Промчался всадник на коне с письмом во дворец. Курица подняла переполох, чуть под копыта не угодив. Захлопали ворота, хозяева загоняют скотину на двор, стучат струи молока по ведру. Последние пострелята домой бегут к ужину. Спокойная, мирная сельская жизнь. Вечером тихо! В реке раки копошатся, птицы звук подают – спать укладываются. Разве что собака забрешет на редкого путника, или всадник проскачет обратно с ответом в Москву. Такой покой здесь наступал, когда Петр уезжал куда-то. С его приездом все менялось, кончалось затишье.
Так же было после возвращения Петра из первой поездки за границу, когда он узнал о Стрелецком бунте.
Глава 19. Жуткие воспоминания о страшном дне
Петр оглядывал ставшие незнакомыми места, а в сердце уже вползала боль. Себя вспомнил, свои мысли, когда узнал он о заговоре! Был он в то время с Великим посольством в Англии. Собирался и дальше по Европе проехать. Его полуторагодовым отсутствием и воспользовались бунтовщики, желая вызволить Софью из Новодевичьего монастыря и на престол возвести.
«В который раз нож в спину от стрельцов! – думал он тогда. – Ведь прощал их уже, щадил, хоть и заметку на его лице на всю жизнь оставили! – Дергавшееся в конвульсиях лицо напомнило ему о пережитом детском ужасе. – Сестрица – змея и в монастыре не успокоилась! Все желала былую власть вернуть! Бунт подняла! Не смирилась до смерти!»
Вспомнился один день, проведенный им у съезжей избы ниже от дворца. Страшный это был день! Один из нескольких дней стрелецкой казни. Хмурый и мрачный – подстать его настроению. Перед Генеральной избой сквозь воющих баб и ребят малых было не пропихнуться. Все за кормильцев просили, на землю кидались, молили. Детей малых вперед выставляли. Озлобляло это его только, не трогало, не жалило! Из пыточной избы неделями не выходил, зачинщиков хотел узнать. А все равно ненависть из сердца муками ненавистных бунтовщиков изгнать не мог! И сам пытал, извивания их от боли видел, хруст костяной слышал, а не пробивало его, не утолялась ненависть, что с детства носил в себе. Много лет носил, подавить старался, вытравить из памяти.
Когда он женился и не нуждался больше в регентстве, Софья подговорила стрельцов на бунт. 7 августа 1689 года стрельцы захватили Кремль. Но понимая, что Петр, а не она, венчан на царство, Софья решила подослать к нему убийц. Двое верных людей пробрались к нему ночью в Преображенский дворец и предупредили о том. Он и сейчас вспомнил обуявший его тогда ужас. Представил, как стрельцы штурмом берут Преображенский дворец и расправляются с ним так же, как с его дядями – братьями матушки Натальи Кирилловны в Кремле восемь лет назад. Он знал, что Софья не отступится и власть сама не отдаст!
В чем был он тогда вскочил на лошадь и поскакал в Троице- Сергиев монастырь. Алексашке только свистнуть успел, чтобы догонял. Гнал лошадь, что было сил, и все ему казалось, что преследователи его нагоняют! В тот момент ни о матери, ни о жене, ни о сыне, что остались во дворце, не подумал. Они приехали в Троицу позже. И вслед за ними пришел в Троицу полк Сухарева. Лаврентий Панкратович привел солдат и тем всем показал, НА ЧЬЕЙ ОН СТОРОНЕ. Его полк – единственный из девяти стрелецких полков был верен ему. За то он, потом повелев выстроить башню на месте старых Сретенских ворот Земляного города, отдал для размещения там полка Сухарева. И башню в честь него Сухаревской звать приказал.
Тогда, в августе, решался вопрос: кто будет править – он или Софья. Служивые люди делали выбор, идти ли к нему на подмогу в Троице-Сергиеву лавру, или оставаться с Софьей в Москве. И выбор этот был в его пользу! Когда Софья, не выдержав, тоже отправилась к нему на переговоры, он с ней увидеться не пожелал. Прямо из села Воздвиженского, где она остановилась в Путевом дворце, ее отправили в Новодевичий монастырь. Закончилась власть! Монашеская доля теперь была ей определена!
Въезжая победителем в столицу и видя стрельцов, добровольно положивших головы на плахи по всей дороге, он простил их, не преследовал, службу дал. Они же, воспользовавшись его отсутствием, опять подняли бунт! Пол-Москвы разграбили да пожгли, много людей поубивали!
Вот тогда ненависть проросла в нем с новой силой! Сколько тогда людишек перепортил – не счесть! От крови отмыться не мог, весь пропах ею! Не трогали ни мольбы, ни признания, ни раскаяния, ни клятвы верности!
Подобное повторилось почти через двадцать лет. Там же, на Генеральном дворе, учрежден был им суд над сыном – царевичем Алексеем, допросы соучастников его и приговоры по этому делу. И верил тогда людишкам, что на сына доносили, и не мог постичь, как свой, родной, изменником стал! Обида душила, глядел на Алексея и понять не мог, когда упустил? В семь лет его от матери отлучил, а успела-таки в него свое семя заложить. Ее глазами, Евдокии, глядел сын на мир! Думал ее думами, и так же, как и она, люто ненавидел все отцовские начинания!
Петр горько вздохнул. Не мог страдания из сердца изгнать, и тот свет не помог! Расплата за то, что недосуг было до сына кровного. Всегда было не до него! Каждый день тяжбы разбирал, вину распознавал, обидчиков наказывал, а сына голос не слышал. Казалось, раз плоть его, то и думы да чаяния его