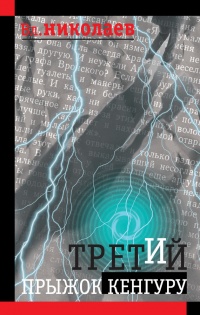– Вот это мастерство… – выдыхает Джейсон, и в стеклах его очков отражаются все эти движущиеся, вращающиеся фигурки. Вопреки обыкновению мы тоже поддаемся очарованию Дворца Эрцгебирге. Возможно, это просто неизбежно. В конце концов, это я – обладательница обширной коллекции гномов и до восьми лет ходила в школу в серебряных сапожках Феи Драже.
– Только посмотрите на этих ЩЕЛКУНЧИКОВ! – с благоговением восклицает моя мать, а затем читает вслух: «Часто Щелкунчик воплощает в себе образ авторитетов прошлого. Особенно часто в качестве модели используются короли, солдаты и жандармы. В то время население зависело от благосклонности властей и пыталось выразить свое недовольство, наделяя Щелкунчиков мрачным, суровым взглядом. Его подвижное массивное лицо придает ему очень властный вид!»
Я рискую предположить, что для Германии не лучшая идея – делать Щелкунчиков в виде «авторитетных деятелей прошлого». Даже производство маленьких фигурок Чарли Чаплина в таком ключе кажется ошибочным. Но мама меня не слушает. Она уже вернулась к просмотру рождественских вертепов и листает их, пока не находит наконец самый большой и дорогой. Ее страсть к вертепам – это пропасть, которую невозможно заполнить. Она убеждена, что рано или поздно найдет абсолютно бесценный: верблюдов, обитых настоящей верблюжьей шерстью, Иосифа в виде терпеливой тени, облапошенной самим Господом, и ребенка с головой в форме лампочки как идеи, которую вот-вот обретет весь мир. Тот, который она нашла сейчас, не настолько хорош, но тоже вполне ничего.
– Какой милый маленький Христос, – совершенно искренне говорит Джейсон.
– Блин, да и Мария не так уж плоха, – говорит мама, оценивающе разглядывая объем ее нимба. А затем делает паузу и бросает на нас лукавый, значительный взгляд.
– Вы знаете, Марию еще до рождения Иисуса жизнь здорово потрепала.
Мама замечает блокнот, лежащий рядом со мной на столе, и спрашивает, где я сейчас. Как будто книга – это своего рода рукописная Америка, по которой можно раскатывать на машине: одну неделю ты в Коннектикуте, другую – в Калифорнии.
– Я пишу обо всех твоих детях, – говорю я и зачитываю последнюю страницу. «Сколько детей может быть у священника? Один? Два? Три, если он ирландец? И близко не угадали! А как насчет пяти? Как еще люди узнают о том, что он влюблен в свою красотку-жену по самое не балуйся?» Я поднимаю взгляд от страницы.
– Я могу так написать?
– Ну… – она взвешивает все «за» и «против». – Вот это «по самое не балуйся» звучит не очень, но мне нравится отрывок про «красотку-жену».
Ее радует, что я нашла свою тему, даже несмотря на то, что эта тема затрагивает ее саму. По крайней мере, пока я пишу о ней, я рядом, разговариваю с ней, смеюсь, ловлю каждое ее слово, а не сижу взаперти у себя в комнате в ожидании какого-нибудь демона. В перерывах между книгами писатель чувствует себя как ангел между добрыми делами – просто не знает, куда себя деть, и атрофируется, превращаясь в бессмысленную декорацию. Но когда наступает время вновь взяться за перо, его спина и плечи распрямляются, а тело наполняется живостью, жизненными соками и таким счастьем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ты превращаешься в стрелу, ни больше ни меньше. Попадаешь в яблочко или разбиваешь голову, ты счастлив, ты на коне, ты летишь.
В нашем детстве дома была еще одна картина: «Благовещение» Фра Анджелико. Это была одна из тех картин, которые как будто выходят за свои собственные рамки и проникают в реальную жизнь. Я тогда думала, что именно это и является признаком «хорошего искусства». На этом полотне солнечный луч льется Марии в грудь, и она склоняется, прижимая руки к тому месту, куда он бьет. Ангел с крыльями, усыпанными перьями как у фрактальной перепелки, сообщает ей добрые вести. Лицо Марии похоже на незрелый, совсем незрелый персик. С ее ног как кусок подтаявшего масла соскальзывает на пол маленькая книжечка. Потолок у нее над головой усыпан звездами, а на заднем плане – два зеленых Гринча, укравших Рай – Адам и Ева, которые, ропща, сходят со сцены.
За пределами дома я почти никогда не видела репродукций этой картины. Но я этого и не ждала, мне казалось, что я и так всюду буду натыкаться на ангела-вестника. Меня почему-то заинтриговал именно он, а не ангел с пылающим мечом, не ангел смерти в черном капюшоне и уж точно не ангел с унылым имечком Фануил. Инстинктивно я понимала, что самый интересный из них – это ангел-вестник, приносящий хорошие новости.
Но как он это делает? Он не шепчет на ушко, а вот так, бьет ослепительным лучом прямо в лицо. Это не роза, а рисунок розы, и расцветает он прямо у вас в голове, так, чтобы вы сами все поняли. И все это абсолютно безмолвно. И произойти может в любой момент и где угодно – в вашей спальне, в пещере посреди пустыни, под тяжелой головой льва, лежащей у вас на коленях, или на вершине столба, где вы просидели целое жаркое столетие. Это может случиться даже во время работы. Да и вообще где угодно.
– Наверное, мне следует сказать ему, что я это делаю, – говорю я и заглядываю в его спальню в конце коридора. Отец возлежит на кровати, словно огромная пинап-модель.
– Пап… тут такое дело… я пишу книгу о тебе.
– Ха-ха-ха-ха! – хохочет он, запрокидывая назад свою голову наполовину херувима, наполовину сатира. Его ангелы и демоны явно не стоят у него за плечами. Они сидят у него на голове и обжимаются. – Ха-ха-ха… Я тебя прикончу.
– Ну-ка не смей говорить дочери, что прикончишь ее! – рявкает мать. – Это не педагогично!
– От-це-пись! – парирует он.
– Рабочее название – «Святой папочка», – говорю я, решив что скажу все правду как на духу.
Не то чтобы отец верил, что кто-то может сказать всю правду.
– Подождем, пока «Нью-Йорк Таймс» напишет про нее кучу статей, – злобно говорит он. А затем, снова переключив свое внимание на футбольный матч по телевизору, ревет: – ДАВАЙ, ЭНДИ! – и пинает воздух своей мясистой ножищей. Он обращается ко всем футболистам по именам, словно это его сыновья.
Джейсон в это время редактирует статью о кукурузном поле на своем ноутбуке и слышит весь этот разговор.
– Почему в твоем доме так любят «кучи»? – раздраженно спрашивает он. – Откуда у Локвудов такая риторическая страсть к кучам?
– Ну а ты посмотри, сколько нас, – бормочу я в ответ, щурясь на фигуру моего отца на кровати. – Его это как будто ни капли не тронуло. Если бы моя дочь сказала, что пишет про меня книгу, я бы сначала завизжала, а потом родила ее обратно и отменила секс по всему миру, чтобы ни у кого никогда больше не было детей.
– Просто ты не любишь оказываться в центре внимания, – говорит Джейсон, проследив за моим взглядом своими зелеными и мудрыми глазами. – Твоя воля, ты бы сутки напролет проводила в мантии-невидимке. А вот твой отец…
– МЯЧ ЛОВИ, МЯЧ! – вопит человек, о котором мы говорим, и перекатывается с одного рубенсовского бока на другой.
– Носил бы мантию-супервидимку, – договариваю я.
– Вот именно. Мне кажется, твой отец всю жизнь ждал, когда кто-нибудь напишет о нем книгу. И чтобы там обязательно были подводные лодки.