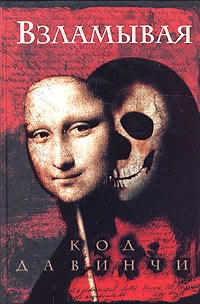Она не помнила. Ту искру, от которой все взлетело на воздух, она не помнила. А может, я все придумал? На краткий миг я запаниковал, испугался, что какая-то сцена, скажем, из польского романа 19 века, где твердолобый папаша клянется однажды повести свою маленькую дочь к алтарю (подумать, так это сюжет из Томаса Гарди), застряла, как шрапнель, в моем размякшем опоенном мозгу. Но нет, я помнил. Это из моей жизни, это я там был. Это в тот час разошлись дороги. Но может быть, я слишком раздул важность того разговора? Пробел в Стеллиной памяти свидетельствует в пользу этой версии, но ведь нужно смотреть в перспективе. Обломок дерева, дрейфующий по поверхности синего океана, вряд ли заслуживает внимания, если только, вцепившись в дерево, не плывешь на нем ты.
— Да так, просто блажь нашла, — ответил я почти шепотом. — Ты же знаешь, как это бывает, когда блажь какая на меня найдет.
— Да, с блажью у тебя всегда хорошо было. — И сопроводила эти слова смешком, как будто неподдельным, — такой нежной трелью. Только непонятно было, смеялась она надо мной или радовалась собственной шутке. — Но вообще-то это как-то странновато, не находишь? Так много времени прошло. И не хочу показаться слишком буквальной, но она не твоя, чтобы ты ее отдавал.
— Нет тут никаких отдаваний, — вяло ответил я.
— Ладно, неважно. Нелетная погода избавила нас от этих трений. А ты уверен, что готов, Бенни? Она не позволит тебе посветиться и снова исчезнуть. Раз сбежал, и хватит.
— Ты сбежала, — поправил я.
— Умоляю тебя, — сказала она. — А ты погнался? Пара ночных звонков не делает тебя мучеником. Но ни к чему заводить сейчас разговор, который должен был произойти двадцать с лишним лет назад. Что было, то было. И все к лучшему, так что, ради бога, давай не ворошить прошлое.
— Есть и другая трактовка событий, — сказал я.
— Какая другая? Каждый сделал свой выбор, Бенни. Вопрос выбора. Тебе нужнее твой табурет у стойки. Жизнь идет.
— Знаешь, я покинул этот табурет. Я же пытался сказать…
— Господи, конечно, и я должна перед тобой извиниться. Твой звонок застал нас в самый неудачный момент. Прости, пожалуйста. Я потом начала писать тебе письмо, но почему-то так и не дописала. Когда ты позвонил, у нас было по горло ужасных забот с Филом…
Фил — это ее пасынок, младший сын Джонатана.
— …Алкоголь, плюс наркотики, плюс еще куча всего, страшно вспоминать, и прости, конечно, но твой звонок захватил меня в самой середине всего этого. Мы только что второй раз положили Фила в клинику в округе Орандж, Джонатан продал всю свою коллекцию, чтобы в доме не осталось спиртного, и не обижайся, Бенни, но в тот момент ты был последним человеком, о котором мне хотелось вспомнить. Я прямо так и подумала: отлично, глядишь, и Фил мне лет через тридцать позвонит и скажет, мол, прости, мам, у меня тут были трудности. В общем, извини. Но что с вами со всеми происходит, парни?
— Как он?
— Фил? Нормально, отлично все у него. Вернулся в школу, почти приличный средний балл, подружка такая милая.
— Это славно, — сказал я. — Славно.
— Ты-то как?
— Неприличный средний балл. И никаких подружек, что удивительно, если посмотреть на меня.
— Смешно, — сказала она. — Правда, смешно. Прости меня, Бенни. Я во многом виновата. Я начала тебе писать письмо, когда с Филом все немножко улеглось, но… не знаю, в общем, понимаешь, я не хотела связываться. У нас тогда все вышло так ужасно, и я себя с трудом узнаю, когда вспоминаю, так что я… смела все в кучу, заперла на замок и выбросила ключ. И кстати, один аналитик сказал мне, что это правильный курс, но другой сказал — дичайшая ошибка. Ну, как знать? Оба выставили счет, вот это я знаю. Мы с тобой были неразумные дети. Мы наломали дров, но ведь выплыли. И во всем этом опереточном дерьме мы родили чудесную девочку. Если тебя от нее не закачает, значит…
— Ты же знаешь, я бы жизнь отдал, чтобы все вернуть, — сказал я.
— Допустим, но это невозможно, — сказала она. — Господи, Бенни, это так в твоем духе. Предлагать невозможное. Зацикливаться на каких-то чертовых идеалах. Меня от этого корежило. Никогда не понимала, почему тебе мало просто жить. Знаешь, несколько лет назад — это было вскоре после 11 сентября, и, наверное, я думала о тебе, ты ведь в Нью-Йорке, — в общем, мне попалась научная статья, не то в «Таймс», не то в «Ньюсуик». Статья про бабочек. Нет, послушай. Один биолог поставил опыт и узнал, что если посадить самца бабочки в клетку с живой самкой и фотографией самки, то самец почти всегда сначала летит к фотографии. И вот, помню, я прочитала это и подумала: господи, да это про Бенни. Вечно тянется к этому… застывшему идеалу, не к живой реальности. Вечно гонится за глупыми иллюзиями.
— А мне кажется, — сказал я, — это биологическое оправдание порноиндустрии.
— Господи, я-то, дура, думала, ты меня послушаешь серьезно. Бенни, ты не меняешься. В общем, давай приезжай и познакомься с дочерью, понял? Слишком долго в ее жизни ты был зияющей прорехой. Не жди слишком многого, но и не устраняйся. Хватит с нее.
Я глубоко вдохнул, заряжая легкие застойным аэропортовским кислородом. На мой рейс началась посадка. Пассажиры первого класса и члены адмиральского клуба[98]уже исчезли в рукаве, никто из них не выглядел таким уж лощеным, и уж точно на адмиралов они похожи не были. Служитель у выхода объявил, что посадка пройдет согласно «номеру группы», напечатанному на посадочном талоне. Где у меня был посадочной талон? Убиться, неужели потерял? Похлопав себя по карману рубашки, я обнаружил талон там. За окном терминала авиалайнер рулил по бетонке, словно огромный неуклюжий зверь, какое-нибудь доисторическое плотоядное.
— Бенни? — сказала Стелла.
Я смотрел, как пассажиры подают билеты контролеру. Застывшая улыбка на его лице казалась неестественной, натужной. Я снова набрал воздуху. Гори оно огнем, мне захотелось закурить. И выпить. И начать все сначала. С отмытой добела душой. И чтобы мир со следами моих шагов стал лучше, не хуже.
— Я вижу, что хватит, — сказал я. — То есть, кажется, вижу. И с тебя тоже хватит. Я просто никогда не понимал, что такое хватит. И когда сказать, когда всё. Иисусе.
Что теперь?
— Не думаю, что слова «я жалею» передадут хотя бы самую малость. Это такое блядски обтекаемое слово. И как может одно куцее словцо охватить всю ту херню, что я натворил, а еще и все те вещи, которые я не сделал? Ведь это от несделанного не спишь ночами. Сделанное — оно в прошлом. Сделано. А упущенное никуда не уходит. Как должно вот это «жаль» вместить все это?
— Бенни, жизнь — не лингвистика, — сказала Стелла.
— Ой ли? По-польски говорят przykro mi, что не переводится на английский, во всяком случае, без потери культурных смыслов, но это что-то между «я жалею» и «я страдаю».