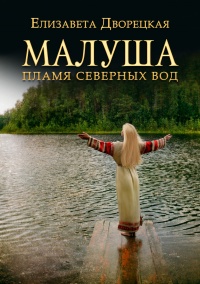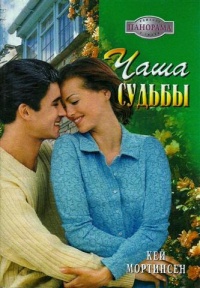Постилала столы скатерью браною,Сажала его за столы дубовые,Угощала его вином заморскиим,Говорила ему слово ласковое… —долетало через стену. Там уже подыгрывали рожки, и судя по топоту, кто-то пошел плясать.
– Так чего – срок-то пришел? – спросил Унерад. – Пора науз снимать? Или еще поносить? Может, еще какая беда-кручина стережет?
Обещана мягким движением обвила руками его стан, где науз. Она вовсе не ждала, что Унерад признается, но догадывалась: науз – только предлог. Женился он на ней, потому что она понравилась ему в тот самый день, когда он, придя в себя, впервые ее разглядел своим единственным глазом.
Перед мысленным взором ее мерцало, как молния, золотое веретено, спрятанное перед чуровым очагом на Бабиной горе близ Укрома. Медвяна – истинно мудрая женщина. Истинная дочь Макоши. Не зря она ехала через снега, дремала в санях, влекомых усталой лошадью, под медвежиной прячась от зимнего холода. Не зря пряла наговоренную нить в пустой темной обчине перед ликами деревянных «бабок». Она пряла жизнь и здоровье незнакомого ей парня – и спряла судьбу своей сестреницы.
– Теперь уже можно снять, – прошептала Обещана, подняв лицо к лицу Унерада. Она стояла к нему вплотную, и теперь лица их оказались так близко, что он чувствовал тепло ее дыхания, но не отстранялся, глубоко дыша. – То была для тебя одного судьба. А теперь у нас другая началась, единая. И будет она долгой да ровной – сама Заря-Зареница, Заря Утренняя и Заря Вечерняя сотворили для нас ее…
Часть третья
Адальберт приветствует возлюбленную сестру во Христе Бертруду
Не ведаю, как жил бы я после горькой нашей разлуки, если бы не верил, что Господь всемогущий милосердно позволит тебе прочесть «сердца моего письменные знаки», как говорил Валахфрид. Даже сейчас, среди тех красот, что тебя окружают, я уверен, ты не забыла его «Садик», по которому мы с тобой так часто бродили вместе. С тех пор я неизменно вспоминаю о тебе, стоит на глаза мне попасться лилии либо розе. Едва лишь «время весны настает»[20] и монастырский наш сад Господь одевает цветами, прелестное личико твое я вижу в каждом из них. А впрочем, мне не нужно видеть цветов, чтобы помнить тебя. Ты сама – роза моего сердца, лилия райского сада, и любовь к тебе наполняет благоуханием розы каждый мой вдох.
Но не об этом я хотел тебе поведать – хотя, надеюсь, тебе так же в радость внимать свидетельствам неизменной верности моей любви, как мне – приносить их тебе. Какое счастье, что на то, чтобы писать тебе эти письма, мне не требуется разрешение доброго отца нашего Лейдрада и мне не приходится думать о сбережении пергамента, иначе, боюсь, ничего иного, кроме этих изъявлений, мои послания до тебя и не доносили бы.
Почтенный наш наставник получил письмо от архиепископа Вильгельма с новостями двора светлейшего и благочестивейшего короля Оттона. Когда «Гений Весны подошел, опоясан гирляндой цветочной»[21] и вознеслось на небосклон созвездие Тельца, епископ Лиутпранд послан был королем в Константинополь с поздравлениями Роману, однако и сейчас, как явствует из отчаянного его письма, еще пребывает на острове Паксос, что близ эпирского побережья, и греческие власти чинят ему всяческие препятствия для дальнейшего пути. Архиепископ полагает, что виной тому – дошедшие до Константинополя известия о посольстве Хелены, королевы ругов[22], что принимал светлейший и благочестивейший король Оттон на прошлое Рождество. Тогда, как я уже писал тебе, для страны ругов почтенным архиепископом Адальдагом поставлен был епископом Либуций, монах Святого Альбана. Архиепископ Вильгельм полагал преждевременным это решение, ибо желание Гамбургской епархии взять на себя просвещение язычников той страны неминуемо возмутит патриарха и цесаря в Константинополе, а добрые отношения с ними куда полезнее для благочестивейшего нашего короля, особенно сейчас, когда все увереннее его надежды на то, что папа возложит на него корону и помажет в императорское достоинство.
Боюсь наскучить тебе, дорогая сестра, «чье личико дорого мне, как роса для травы, как волны морские для рыб»…[23] Вижу, ты улыбнулась, прощая мне мои прегрешения. Однако предметы эти весьма занимают архиепископа, дорогого моего брата, а потому не могут не заслужить некоторого места и в моих досужих размышлениях. Ум мой слишком слаб, дабы разобраться во всем этом, однако мне точно известно, что Либуций, уже получив и паллий, и пастырский жезл, еще не отправился в страну ругов и напрасно ожидает распоряжений к отъезду…