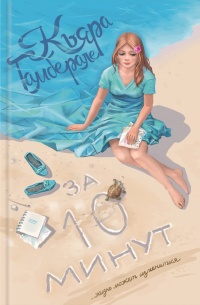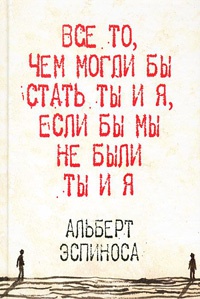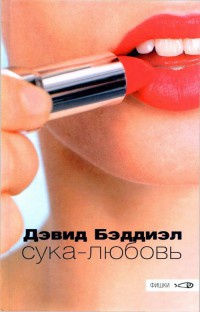— Спасибо, Таня! Спасибо, Морис! — улыбается бабушка, показывая всем золотую брошь в форме звезды Давида. У дяди Рэя при упоминании имени его сына слегка дергаются мышцы шеи, а это происходит, наверное, десять, двадцать раз в день; если бы только муж Ади был жив и мог сбежать с кем-нибудь по имени Саймон, она бы сэкономила на подтяжке лица. Морис и Таня на мгновение отрывают подозрительно нежный взгляд друг от друга, чтобы скромно улыбнуться Мутти, будто они сами купили подарок, а затем они опять замыкаются, смотрясь друг в друга, как в зеркало.
— Как там Ник? — слышу я звуки виолончели.
Смотрю на Элис, проскользнувшую под подбородком Бена, чтобы поговорить со мной. Мы не виделись с тех пор, как приключилась та история с Диной — «Та история с Диной» звучит как название песенки в варьете тридцатых годов, — и, зная, что она придет, я гадал, повлияет ли нарастающее необъяснимое чувство к ее сестре на мое раболепное отношение к ней; естественно, в последние две недели мои мысли во время бессонных ночей были расшиты не только ее изображениями. Я даже почувствовал какое-то воодушевление, выходя из автобуса и проходя по Эджвербери-лэйн, я думал, что меня не будет охватывать желание при одном виде Элис, что я не буду больше чувствовать ее безраздельной власти над собой. Но я не был готов отказаться от ее грудей.
По правде, это не так. Я сказал про груди стилистического контраста ради, хотя на них приходится процентов тридцать впечатления, которое производит Элис. На самом деле речь шла о ней. Я не готов отказаться от нее (зато иногда мне хочется закричать: «Я от всего откажусь ради тебя! От всего!»). Знаете, как бывает, когда внутри засядет невыразимая тоска? Когда лежишь без дела весь день и время от времени грудь будто разрывает? Или едешь на машине, но город вдруг кончается, и ты уже едешь мимо какого-то поля, а по радио играет хорошая музыка? И она такая неясная, эта тоска, будто это не тоска по чему-то, а просто тоска — просто душа ноет. Если честно, тоска по чему-то — это тоска по Элис.
— Это ханукальное блюдо, Мутти!
— Она и так знает, что это такое, Аврил.
— Прелестно!
— Ничего особенного, — говорю я Элис.
Она понимающе кивает — ворох черных кудряшек прижимается к широкой груди моего брата. Она, возможно, уже знает, но мне все равно не терпится рассказать о том, что я переспал с Диной, об этом малопонятном адюльтере.
— Он принимает антипсихотические препараты? — спрашивает она.
Я устаю изумляться осведомленности Элис о моей жизни. Хотя со стороны может показаться, будто мы ведем непринужденную беседу двух равных людей, в душе я ползаю перед ней на коленях, благодарный уже за то, что она вообще снизошла до разговора со мной, а все остальное — это уже что-то запредельное. Но, кроме того, есть в Элис еще и своего рода индифферентность ко всему, и я думаю, причиной тому не заносчивость или высокомерие, а безмятежность; она очертила свою жизнь кругом, который ей нет необходимости покидать, это здоровая незаинтересованность довольного жизнью человека.
Сначала я удивился, что она знает, как зовут моего соседа, потом еще больше удивился, потому что она знает о его проблемах; но теперь, когда оказывается, что она знает, какое лекарство ему прописали, чувствую себя как утка под артиллерийским обстрелом. И тут я догадываюсь, откуда ей все известно.
— Тебе Дина рассказала? — грустно спрашиваю я.
Грустный тон — это прикрытие: он призван выразить ту боль, которую причиняет мне происходящее с Ником, но на самом деле я получаю тайное удовольствие, будто случайно давая понять, что у нас с Диной что-то происходит. Элис приподнимает обе брови, улыбкой честно признаваясь, что я прав. Дядя Рэй и тетушка Аврил порознь отходят от бабушки.
— Да, он их принимает. Кажется, — продвигаюсь я вперед.
Саймон, улыбаясь, наклоняется к Мутти, зажав в руке подарок, завернутый в голубую гофрированную бумагу.
— Сложно сказать, я же не могу запихивать ему таблетки прямо в рот. Но последние несколько дней он ведет себя спокойнее. Может, Фрэн и не ошибалась насчет них.
— Фрэн?
— А Дина разве не рассказала о ней?
Элис хмурит брови, но не вспоминает. Я уверен, что Дина не могла не рассказать сестре о таком, — только манера моего отца отзываться о маме может сравниться с тем, как Дина отзывалась о Фрэн, когда мы вернулись из травматологического пункта, — так что либо это еще один пример незаинтересованности Элис, либо…
— Может, ты о хирпии говоришь? — подсказывает Бен.
…она им знакома под другим именем.
— Она так ее назвала? — удивляюсь я.
— Ага. Она сказала, что это нечто среднее между хиппи и гарпией.
— Как это на нее похоже! — смеется Элис.
— Да уж… — не спорю я.
Мутти поднимает над головой подарок Саймона — фотографию Стены Плача в рамочке. Похоже, это тематический праздник. Я раздумываю, не спросить ли мне Бена с Элис, где Дина, но потом решаю этого не делать. В конце концов, понятно, почему ее здесь нет. Это семейное торжество, где ты предстаешь во всех возможных измерениях, где тебя рассматривают, как на техническом чертеже, с семи или восьми углов зрения: например, тетушка Ади — это моя двоюродная бабушка, сестра Мутти, мать Саймона, тетя Рэя и так далее, и так далее, и так далее. А Дина кто? Свояченица Бена? Или моя девушка? На семейном празднике меньше всего хочется подобного сокращения этих измерений. Особенно, если учесть ту двусмысленность, которая уже возникла вместе с именем Мориса.
Мой отец вдруг разражается смехом. Все присутствующие переключают внимание с Мутти на него. Он отрывается от книга.
— Чего?
— Стюарт… — пытается объяснить мама.
— Чего?!
— Эх, Стюарт.
— НУ ЧЕГО?!
В лысой голове отца роятся ругательства. Но он молчит: молодец — не ругается на маму при других. Правда, однажды дядя Рэй попросил отца не называть его сестру гребаной прогнившей геморроидальной шишкой, но это ругательство он услышал, разговаривая с мамой по телефону. Находясь вне дома, отец себя сдерживает.
— Папа, неужели так сложно хоть раз в жизни к нам присоединиться? — задает Бен мамин вопрос. Бен всегда принимал отношения между родителями ближе к сердцу, чем я; естественно, мне близки ирония и постмодернизм, причем это не просто защитная реакция.
— Ладно…
Я вижу, как отчаянно отец подбирает в своем словаре выражение поприличнее: «мать вашу», «черт с вами», «блин»… а дальше тупик.
— …УЖЕ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!
Он выкрикивает это настолько громко, насколько может, пытаясь так восполнить отсутствие ругательств.
— Что он говорит? — спрашивает Мутти у сидящей рядом с ней миссис Гильдарт, своей подруги, единственной участницы торжества не из числа родственников.
Миссис Гильдарт, больше известная просто как Милли, не живет в «Лив Дашем»; это старая подруга Мутти, и, несмотря на свои восемьдесят два года, Милли не хочет переезжать в дом престарелых, называя его карцером. Она носит берет, она стара, но не так, как обитатели «Лив Дашем». Это не старость криков в очереди, фотографий внуков на полках, неимоверных размеров нижнего белья и вонючих коридоров — это старость в духе гражданской войны в Испании, в духе поэта Уистена Одена; ее лицо — как выцветший черно-белый фотопортрет, ее красота прошла весь путь, вернувшись к своему началу, а ее разум — дай вам бог такой разум — исполнен истин, горечи и самых разных историй. На закате жизни Милли все же не сдается — она мне недавно рассказала, что записалась на компьютерные курсы в вечерней школе.