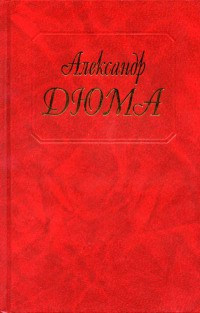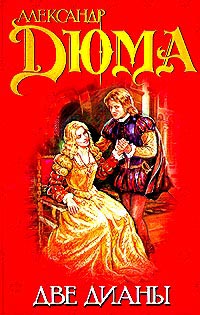– А я умею, я судебный исполнитель.
– Ах, так вы судебный исполнитель?
– Станислас Майяр, судебный исполнитель суда Шатле. И он вытащил из кармана длинный роговой чернильный прибор с пером, бумагой и чернилами, словом, всем тем, что требуется для письма.
Майяр был мужчина лет сорока пяти, высокий, тощий, серьезный, одетый в черное, как и подобает человеку его профессии.
– Вылитый могильщик, – прошептал Питу.
– Вы утверждаете, – продолжал невозмутимый судебный исполнитель, – что приезжие из Парижа отняли у вас ларец, принадлежащий доктору Жильберу. А ведь это преступление.
– Эти приезжие были из парижской полиции.
– Подлая воровка – эта полиция! – пробормотал Маяйр и, подавая Питу лист бумаги, добавил: «Держи, юноша, вот тебе памятка, а если его убьют… – он показал на Бийо, – и тебя тоже, то уж я-то, надеюсь, уцелею».
– И что же вы сделаете, если уцелеете?
– Сделаю то, что должен был сделать ты.
– Спасибо, – сказал Бийо и протянул судебному исполнителю руку.
Тот пожал ее с силой, удивительной для столь тощего субъекта.
– Итак, я могу рассчитывать на вас? – спросил Бийо.
– Как на Марата и Гоншона.
– Ну и дела! – сказал Питу. – Вот так Троица – бьюсь об заклад, в раю о такой не слыхали. Затем, обернувшись к Бийо, он продолжил:
– Кстати, папаша Бийо, не забывайте об осторожности.
– Питу, – отвечал фермер с красноречивой торжественностью, какой трудно было ожидать от сельского жителя, – не забывай, что во Франции самая большая осторожность – это отвага.
И он пересек первую линию часовых, меж тем как Питу возвратился на площадь.
У подъемного моста фермеру пришлось вновь вступить в переговоры.
Бийо показал свой пропуск: мост опустился, ворота открылись.
За воротами его ждал комендант.
Внутренний двор, в котором встретил фермера комендант Бастилии, служил заключенным местом для прогулок. Его окружали восемь башен – восемь гигантских стражей. Ни одно окно не выходило в этот двор. Луч солнца никогда не достигал его сырой, осклизлой мостовой, напоминавшей дно глубокого колодца.
В этом дворе башенные часы, циферблат которых поддерживали изваяния скованных узников, отмеряли часы и минуты так неторопливо, что приводили на память капли, сочащиеся с потолка в темнице и постепенно разъедающие ее каменный пол.
Очутившись на дне этого колодца, внутри этого каменного мешка, заключенный, чьему взгляду открывалась одна лишь неумолимая нагота камней, очень скоро просил вернуть его обратно в камеру.
За воротами, ведущими в этот двор, стоял, как мы уже сказали, г-н де Лоне.
Господин де Лоне был человек лет сорока пяти – пятидесяти; в тот день на нем был розовато-серый кафтан, украшенный красной лентой ордена Святого Людовика; в руке он держал шпагу-трость.
Господин де Лоне был дурной человек: об этом можно судить по обнародованным недавно запискам Ленге; народ ненавидел коменданта Бастилии почти так же сильно, как управляемую им тюрьму.
Члены рода де Лоне, подобно Шатонефам, Ла Врийерам и Сен-Флорантенам, передававшим по наследству право подписывать королевские указы о заключении в крепость, были потомственными властителями Бастилии.
Известно, что офицеры, служившие в Бастилии, получали назначение не от военного министра. Все места в крепости, от коменданта до поваренка, покупались. Комендант Бастилии был просто важный привратник, кабатчик в эполетах, который к шестидесяти тысячам франков жалованья прибавлял шестьдесят тысяч франков, полученных с помощью грабежа и вымогательства.
Нужно же было оправдать расходы.
По части скупости г-н де Лоне оставил далеко позади своих предшественников. Впрочем, может быть, все дело в том, что он заплатил за свое место дороже, чем они, да к тому же предвидел, что недолго его сохранит.
Своих домашних он кормил за счет заключенных. Он уменьшил расход дров для узников, удвоил цену каждого предмета их утвари.
Де Лоне имел право на беспошлинный ввоз в Париж ста бочек вина. Право свое он продавал трактирщику, который благодаря этому ввозил в столицу превосходные вина. Право же на ввоз десятой части комендант оставлял за собой и покупал скверное вино, по вкусу напоминающее уксус, – им он поил своих узников.
Несчастным заключенным оставалось одно утешение – садик, разведенный на крыше одного из бастионов. Там они гуляли, там на мгновение вспоминали, что такое воздух, цветы, свет, одним словом, природа.
За 50 ливров в год комендант сдал этот садик какому-то садовнику и лишил узников последней радости.
Правда, к богатым заключенным он проявлял чрезвычайное снисхождение: возил их к своей любовнице, жившей в собственном доме и, следовательно, не стоившей ему, де Лоне, ни гроша.
Прочтите «Бастилию без покрова»: там изложены этот и многие другие факты.
Впрочем, де Лоне был храбр.
Уже второй день он чувствовал, что над его головой собираются тучи. Уже второй день он слышал, как волны бунта все громче и громче бьются о стены его крепости.
Все это заставило его побледнеть, однако он сохранял хладнокровие.
Впрочем, за его спиной стояли четыре пушки, готовые открыть огонь, рядом с ним был гарнизон швейцарцев и инвалидов, а перед ним – один-единственный человек, и притом безоружный: перед тем, как войти в крепость, Бийо отдал свой карабин Питу. Он понимал, что по ту сторону ворот любое оружие принесет ему больше вреда, чем пользы.
Бийо было достаточно одного взгляда, чтобы заметить все: грозное спокойствие коменданта, швейцарцев в караульнях, инвалидов на орудийных площадках, молчаливую суету артиллеристов, грузящих в фургоны зарядные картузы.
Часовые держали ружья наизготовку, офицеры обнажили шпаги.
Комендант не двигался с места, и Бийо пришлось подойти к нему; ворота закрылись за спиной посланца народа с таким мрачным скрежетом, что, как ни отважен был фермер, его пробрала дрожь.
– Что вам еще угодно от меня? – спросил де Лоне.
– Еще? – удивился Бийо. – Сдается мне, что мы видимся впервые в жизни, и у вас нет причин утверждать, что я докучаю вам просьбами.
– Но мне сказали, что вы пришли ко мне из Ратуши.
– Это верно.
– А я только что принимал посланцев муниципалитета.
– Зачем же они приходили?
– Затем, чтобы попросить меня не открывать огонь.
– И вы обещали?
– Да. Еще они просили меня убрать пушки.
– И вы их убрали, я видел. Я был в эту минуту на площади.
– И, конечно, решили, что я испугался угроз этой толпы?