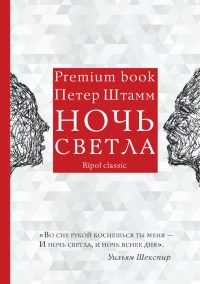я быстро нашел в Базеле желающих организовать сбор пожертвований. У правительства кантона, как мы и предполагали, денег не было, и оно смогло лишь выделить несколько подручных рабочих. Тогда я обратился с воззваниями и репортажами в газеты; посыпались письма, денежные переводы, запросы, а кроме этой писанины, на меня возложена была обязанность улаживать споры и разногласия между советом общины и деревенскими тугодумами.
Несколько недель напряженной, неотлагательной работы подействовали на меня благотворно. Когда дело наконец приняло желаемый оборот и мое участие в нем перестало быть необходимостью, вокруг уже зеленели альпийские луга и чистое голубое око озера, казалось, весело подмигивало освободившимся от снега пологим склонам. Отец мой почувствовал себя лучше, и мои любовные терзания исчезли, испарились, словно грязные остатки снежной лавины. Прежде в эту пору отец всегда смолил нашу лодку; мать с огорода поглядывала в его сторону, а я, позабыв обо всем на свете, следил за его ловкими движениями, за облачками дыма из его трубки и за желтыми мотыльками. Этой весною смолить было нечего; матери давно уже не было в живых, а отец мрачно сидел в нашем старом, запущенном доме. О былых временах напоминал мне и дядюшка Конрад. Я частенько тайком от отца брал его в трактир, угощал вином, и он пускался в воспоминания о своих многочисленных проектах, рассказывая о них с добродушным смехом, однако не без гордости. Новых проектов он уже никому не предлагал, да и возраст уже наложил на него свою отчетливую печать, и все же в лице его, и особенно в его смехе, было что-то мальчишеское или юношеское, что согревало мне душу. Он не раз был мне утешением и развлечением, когда я, не выдержав дома, со стариком, брал дядюшку с собою в трактир. По дороге он изо всех сил старался приноровиться к моим шагам и суетливо ковылял рядом на своих тощих, кривых ногах.
– Поднимай парус, дядюшка Конрад! – подбадривал я его, и каждый раз упоминание злополучного паруса наводило разговор на наш старый челнок, от которого уже давно не осталось ни щепки и который дядюшка оплакивал, словно покойника. Так как старое суденышко и мне было дорого и памятно, мы пускались в подробнейшие воспоминания обо всем, что было с ним связано.
Озеро было таким же голубым, как в детстве, солнце – таким же теплым и празднично-ярким, и я, старый чудак, смотрел на желтых мотыльков и постепенно проникался чувством, будто с тех пор, в сущности, мало что изменилось и я мог бы вновь как ни в чем не бывало лечь в траву и поплыть по волнам мальчишеских грез. О том, что это заблуждение и что добрая часть жизни пронеслась в прошлое и уже никогда не вернется, мне каждое утро говорило мое собственное носатое лицо с горестно поджатым ртом, в упор глядя на меня сквозь блестящую рябь воды из ржавой умывальной миски. Еще более отрезвляюще действовал на меня Каменцинд-старший, живое напоминание о свершившихся переменах, а если мне нужно было совершенно отрешиться от прошлого и целиком перенестись в настоящее, достаточно было лишь выдвинуть ящик стола в моей комнате, в котором покоилось мое будущее произведение в виде стопки пожелтевших от времени записок и шести или семи набросков, написанных на бумаге в четвертку. Но я редко открывал ящик.
Кроме ухода за стариком много хлопот доставляло мне и наше захудалое хозяйство. В полу зияли черные дыры, печь и плита, давно требовавшие ремонта, отчаянно чадили, двери не закрывались, лестница на чердак, бывший некогда свидетелем суровых отцовских мер воспитания, стала опасной для жизни. Прежде чем что-нибудь сделать, нужно было наточить топор, починить пилу, одолжить молоток, наскрести гвоздей, а потом отобрать из остатков прежних полусгнивших запасов досок подходящий материал. С ремонтом инструмента и старого точильного круга мне немного помог дядюшка Конрад, но все же от слабого, сгорбившегося старика толку было мало. И вот я раздирал свои мягкие литераторские руки о непослушные доски, крутил шаткий точильный круг, карабкался вверх-вниз по вконец прохудившейся крыше, стучал, колотил, стругал и резал, а так как я уже успел изрядно раздобреть, то и пролил за всеми этими занятиями немало пота. Время от времени, особенно на этой ненавистной крыше, я вдруг неожиданно замирал с занесенным над шляпкой гвоздя молотком в руке, усаживался поудобнее, раскуривал погасшую сигару, устремлял взор в густую небесную синь и наслаждался своей ленью, в радостном сознании того, что отец уже не может подгонять и бранить меня. Если мимо шли соседи – женщины, старики или школьники, – я, чтобы как-то оправдать свое безделье, заводил с ними дружески-соседские разговоры и постепенно снискал себе славу человека, с которым приятно перемолвиться словом.
– Ну что, пригревает сегодня, Лизбет?
– И не говори, Петер. Что мастеришь?
– Крышу вот латаю.
– Тоже дело. Давно уж пора было.
– Твоя правда.
– Старик-то здоров? Ему уж небось давно семьдесят стукнуло?
– Восемьдесят, Лизбет, восемьдесят. Представляешь, и мы когда-нибудь доживем до таких лет, а? Старость не радость…
– Что верно, то верно, Петер. Ну я пойду, а то муж уже ждет свой обед. Счастливо оставаться!
– Будь здорова, Лизбет!
И она шла дальше со своей завернутой в платочек миской, а я мирно попыхивал сигарой, смотрел ей вслед и думал: отчего же это так происходит, что все люди как люди, трудятся не покладая рук, хлопочут, в то время как я уже второй день никак не управлюсь с одной планкой? Но в конце концов крыша все же была готова. Отец против обыкновения заинтересовался моими успехами, и, так как я не мог затащить его на крышу, мне пришлось все подробно описывать и отчитываться за каждую рейку, и, конечно же, трудно было удержаться, чтобы слегка не прихвастнуть.
– Хорошо, хорошо, – похвалил он. – Я-то думал, ты так скоро не управишься! И года не прошло…
Сейчас, когда я, оглядываясь назад, обозреваю и переосмысливаю свои странствия и жизненные опыты, мне и радостно, и досадно оттого, что я и на себе самом испытал старую истину: рыбе не жить без воды, а крестьянину без деревни, и никакие науки не сделают из нимиконского Каменцинда городского, светского человека. Я уже почти свыкся с этим и рад, что моя неловкая охота за счастьем против моей воли привела меня обратно, на маленький, зажатый между озером и горами клочок земли, где мое законное место и где мои добродетели и пороки – и прежде всего пороки – суть нечто обыденное и привычное. Там, на чужбине, я забыл свою родину