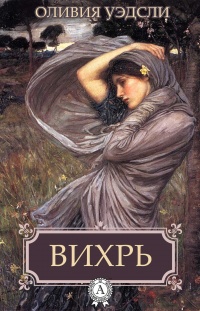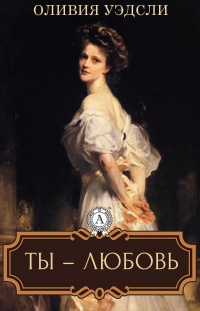Его оптимизм, детская доверчивость и рыцарская вежливость сделали ее более снисходительной ко всему французскому; она даже научилась отвечать по-французски «Merci» и «Bon jour» на его приветствия, которые он из чувства галантности всегда выражал на ее языке, хотя и коверкала их при этом на английский лад.
Франсуа окончательно покорил ее сердце однажды вечером, применив к своей госпоже следующее сравнение:
– Мадам похожа на богиню судьбы: такая стройная и бледная и с такими грустными глазами.
– Только бы скорее все кончилось! – вздохнула Гак.
«Только бы скорее все кончилось!» В этом восклицании выражалась вся тоска этих измученных людей: и соучастника в укрывательстве Колена, и безгранично преданной Гак, и терзаемого тревогой, близкого к сумасшествию Доминика Гиза…
В ночь перед судом Гак даже не пыталась заснуть и до утра просидела на одном месте, прижимая к себе Вильяма и горько рыдая.
Франсуа тоже не спал: он молился.
Сердце Колена обливалось кровью.
Но Сара как раз в эту ночь крепко заснула, в первый раз за свое пребывание в арестном доме. Ей снился Жюльен, его ласки, его голос, весь его образ…
Когда она наконец проснулась, солнечные лучи заливали ее камеру; надзирательница пожалела ее будить, и она проспала часом дольше положенного времени.
Эта надзирательница была уже немолодая особа, с суровым лицом и с суровым сердцем, алчная до денег; но на этот раз и она была растрогана до слез.
– Желаю вам удачи, дитя мое, – сказала она Саре на прощание.
Первое, что бросилось Саре в глаза в зале суда, была Гак, потом леди Диана со своим точеным, бледным лицом. Вся в черном, с черным страусовым пером на шляпе, она казалась плохим подражанием статуе материнской скорби.
Зал был битком набит, было невыносимо душно. Как это всегда бывает во Франции, очень подробное предварительное следствие заранее исчерпало все вопросы, так что суд свелся к поединку между прокурором и Дэволем.
Царила такая мертвая тишина, что было слышно, как трещали от зноя деревянные перегородки стен.
Женщины тянулись вперед, чтобы взглянуть на Сару, и делали замечания по поводу ее наружности.
– Говорили, что она прямо красавица!
– Это просто ходячая фраза по поводу всех нарядных женщин!
– Сейчас в ней нет ничего красивого!
Однако большинство было настроено благосклонно. Трагическая развязка этого сложного романа импонировала. Кроме того, многие лично знали и любили приветливого и изящного Кэртона, а сравнительно недавнее появление Сары тоже не осталось незамеченным: ее несчастный брак, высокое общественное положение, красота и богатство давали материал для обогащения газетных издательств.
Появление знаменитого Лукана в качестве свидетеля, в свою очередь, произвело сенсацию.
К его показаниям прислушивались с особенным вниманием. Лукана все любили, потому что, даже достигнув славы, он не забывал своих прежних скромных клиентов; разница заключалась лишь в том, что теперь он лечил их совсем даром.
Он, как и Дэволь, пробился из низов общества, помнил это и никогда не разыгрывал из себя «аристократа»; его точные бесстрастные показания били гораздо дальше показаний доктора, который первый осмотрел Шарля.
– Лукан знает свое дело, его не проведешь, – таково было общее мнение публики и присяжных.
«Уж если этот не принесет нам счастья…» – вздыхал про себя Колен, нервное напряжение которого достигло последних пределов.
Когда Дэволь приступил к защите, он замер и весь превратился в слух.
То страстный, то растроганный, то деловитый, то иронизирующий голос Дэволя гремел, потом понижался до шепота, потом снова гремел…
«Он, кажется, никогда не кончит, – тоскливо думал Колен, – длинные речи только утомляют присяжных».
Теперь он смотрел на Дэволя почти с ненавистью, с той ненавистью, которую испытывают нервные люди к тем, кто подвергает их терпение слишком долгому испытанию.
– Боже мой, когда же будет конец?
Точно по команде Дэволь умолк; защита сказала свое слово.
Сару окружили люди, которых она видела в первый раз в жизни, поили ее чаем, выражали ей свое сочувствие, закидывали ее вопросами.
Она растерянно взглянула на Колена, не будучи в состоянии произнести ни слова.
– Все обстоит благополучно, – прошептал он ей, – через несколько мгновений вы будете свободны!
Но время точно остановилось, и им снова овладел такой безумный страх, что он отошел от Сары, не спуская глаз с роковой двери.
Лукан, в свою очередь, старался ободрить Сару; его суровое лицо выражало глубокое сочувствие.
Темнело, летний вечер сменился ночью.
– Пора обедать, – невольно пришло на ум Колену, но тут же его охватило глубокое отвращение и к своей роскошной столовой, и к своей экономке, и даже к запаху изысканных яств.
Зазвенел колокольчик.
– Соберите все свои силы, – бодро сказал Лукан, между тем как слезы градом струились по его лицу. Глядя на него, Сара вспомнила (в критические моменты жизни мы часто вспоминаем ничтожные мелочи), что где-то читала о каком-то народе, который плачет, бросаясь в бой, и у которого слезы – результат душевного подъема, а не слабости.
– Год одиночного заключения, – возвестил голос через внутреннее окошко. В глазах у Сары заходили красные круги.
Точно издалека донесся до нее гул толпы, подобный вздоху, потом резкий голос Лукана, обнимавшего ее за талию.
– Она должна остаться здесь на эту ночь, иначе я не отвечаю за ее рассудок. Я имею право требовать это.
Ее долго водили по каким-то бесконечным коридорам, пока она не очутилась в крошечной каморке, где уже ждала ее надзирательница, другая. Заботливые руки раздели и уложили ее в постель, внимательно подоткнули под нее одеяло. Лукан протянул ей стакан с лекарством, и она невольно обратила внимание на контраст между прозрачным стеклом и его загорелыми пальцами.
– Год промелькнет незаметно, и мы с Коленом сделаем все возможное, чтобы смягчить вашу участь. Клянусь вам в этом! Теперь примите лекарство и постарайтесь заснуть.
Колен поджидал Лукана у порога камеры.
– Возьмите себя в руки, ради всего святого! – воскликнул Лукан с раздражением. – Я не надеялся на такой снисходительный приговор: ей грозило пять лет одиночного заключения. Послушайте, Колен, если вы будете так распускаться…
Он сам отвез Колена домой.
Вкусный обед, заботливая воркотня экономки, которая уже знала о приговоре и укоряла его в малодушии… Он прошел к себе в спальню. На ночном столике лежала Библия.
– Если она будет слишком страдать или заболеет, я заговорю.