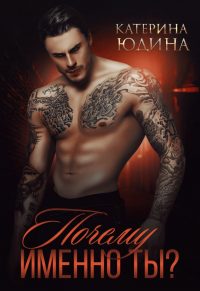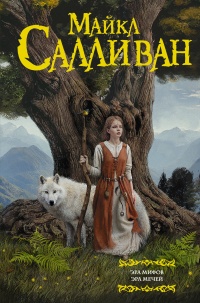— Как тебя зовут? — он обратился к побитому бригадиру.
— Нартан. — буркнул тот в ответ.
— У тебя дочь на корабле, Нартан. Маленькая, слабая. Сколько ей лет, что у нее такие руки? Женщины не валят лес, но их руки истерзаны хуже наших. Что они делают, Заль?
— Вываривают кору деревьев на краку. Бывал я на их палубе, как на самом прогулялся.
Келеф кивнул. Вздохнув, он склонил голову, поднял взгляд на Нартана:
— Я виноват перед тобой, это правда. Я, не Гайлит. Потому что головой не подумал, когда следовало бы. Я понимаю, что вы, как и мы, просто пытаетесь прокормить своих близких, защитить их. Но вечно это продолжаться не будет, рано или поздно мы все тут подохнем.
— И что ты предлагаешь? Перебить охрану, захватить корабль? А толку-то, малец? — горько усмехнулся изувеченный. — Пока тагац жив, пока он велит творить такое — нихера не изменится. Мы можем бежать, только нас все-равно поймают, не сегодня так завтра.
— Может и так. Но нужно…
— Да ничего не нужно. Все это бесполезно и бессмысленно. Я хочу, чтобы мои девочки прожили подольше, хоть бы и так.
Стиснув кулаки, Келеф поднялся, оперся на ствол дерева. С открывшихся ран на ладонях закапала кровь.
— Слушай. Слушай, и не перебивай. Все слушайте.
Уставшие, осунувшиеся мужчины подняли на него глаза. Кто-то устало лежал на корнях, но и они кинули на него короткий взгляд.
— Я здесь чужой. Я многого не знаю или не помню. Когда я пришел в себя — я уже был… Такой. Лицо у меня изуродовано настолько, что даже морда собаки выглядит лучше. Я не знаю кто такой тагац, не понимаю половины слов, которые вы говорите, но знаю одно: зло творится с молчаливого согласия равнодушных. Кем бы ни был этот тагац, эта мразь, из-за которой мы все попали сюда, только мы можем сказать ему “нет”. И мы можем продолжать молчать, можем продолжать быть рабами, умирать и убивать друг друга. А можем… Можем попытаться дать отпор, все вместе. Нам все равно нечего терять, кроме наших жизней, которые у нас и так отняли.
Люди молчали. Не было ни одобрительных возгласов, ни вскинутых в воздух кулаков. Как бы ни пытался вдохновить их Келеф, их души были слишком сломлены для борьбы. Это были уже не люди, а лишь их тени, прикованные к своим пропитанным кровью веревкам и топорам, неспособные бороться и защищаться.
— Это решение — ваше. Я его вам дарю. Это маленький кусочек свободы, и как с ним распорядиться думайте сами. — помрачнев, стихшим голосом проговорил он. — Если никто не пойдет за мной — пойду один.
И он ушел обратно, туда, где работали и умирали его соратники. В голове роились мрачные, серые мысли. Не было здесь ничего хорошего. Не было никакой надежды, и даже придумать ее юноша не мог.
Весь оставшийся день он, в перерывах между валкой деревьев, потратил на очередную поделку. Собрав охапку гибких, молодых веточек, он, не говоря больше никому не слова, пытался сплести из них нечто большое, круглое. Мужчины переговаривались между собой, спорили, что это может быть — корзина, циновка, заготовка для побега? Спросить никто не решился.
День прошел так же быстро, как и начался. Слишком быстро, слишком незаметно, как и все прочие, тяжелые дни. За ним еще один, и еще. Никто не шел к Келефу, никто не спрашивал, какой у него был план. Никто не собирался в нем участвовать.