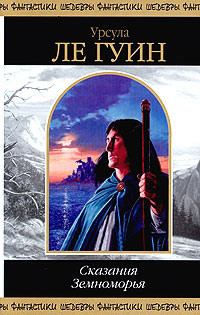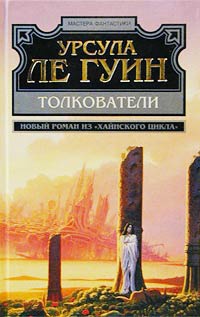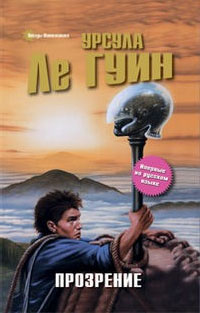И тут же нырнул в комнату. Даже окно закрыл: ему показалось, что некто стоявший внизу, в густой тени деревьев, вдруг поднял голову и вопросительно посмотрел прямо на него.
В комнате сразу стало душно. Итале ослабил узел галстука и принялся было снимать сюртук, но вдруг одним движением плеч снова надел его и решительно двинулся к двери; он осторожно вышел в коридор, спустился в вестибюль, прошел через музыкальную комнату и, открыв боковую дверь, очутился в саду. В саду было довольно светло и очень холодно. Пел фонтан; сквозь покрытые набухшими почками ветки деревьев сияли звезды; в лунных лучах светились нарциссы, посаженные вдоль дорожек; теплым светом горели окна в доме. Итале подошел к фонтану и остановился, любуясь игрой водных струй. Потом присел на скамью рядом, сунув руки в карманы и не сводя глаз с несильно бьющей струйки воды, которая словно повисала в воздухе над каменным бассейном, блестя под луной, падала и тут же снова взлетала — и все это составляло как бы одно движение, напоминая вечный, неизменный и все же постоянно меняющийся круговорот жизни…
— Это вы, Итале?
Он вскочил как ужаленный.
— В доме так душно. Я просто не могла уснуть… Весной меня вечно мучает бессонница. — Голос Луизы звучал так тихо, что журчание фонтана почти заглушало его. Она накинула поверх своего легкого платья теплую шаль и в неясном свете казалась тенью: все в ней было сейчас каким-то нечетким, расплывчатым, и только бледное лицо, освещенное луной и падавшим из окна теплым светом, Итале видел отчетливо; в этом двойном освещении Луиза Палюдескар была просто прекрасна.
— С тех пор, как вы с Энрике сюда приехали, я никак не могла улучить подходящий момент, чтобы поговорить с вами… А мне так хотелось бы кое о чем вас расспросить. Скажите, Итале, вы довольны? Довольны, что занимаетесь сейчас именно этим?
— Ничем иным я и не хотел бы заниматься.
— Значит, ваша жизнь действительно складывается так, как вы того хотели?
— Нет, — сказал он и, невольно вздрогнув, стиснул заложенные за спину руки.
Луиза присела на скамью и поплотнее укуталась в шаль.
— А если бы вы обладали полной свободой — никакой ответственности ни перед кем, никаких обязанностей, — как бы вы поступили?
— Я не могу представить себе свободы без ответственности.
— О господи! — фыркнула она. — Иногда, сударь, вы бываете настоящим занудой! И отлично умеете уходить от прямого ответа. Хорошо, тогда так: если бы у вас была возможность делать именно то, чего вам хочется больше всего на свете, то чем бы вы стали заниматься? — Голос Луизы звучал настойчиво, однако в нем явственно слышалась странная нежность; она никогда прежде так с ним не говорила; ему вдруг показалось, что именно сейчас она настоящая — насмешливая, настойчивая, упрямая, нервная и…
беззащитная.
— Не знаю, — сказал он. — Пожалуй, поехал бы домой.
— А где ваш дом?
— В Малафрене… Но вообще-то я занимаюсь именно тем, чем всегда хотел заниматься. У вас какие-то совершенно детские представления о свободе, госпожа баронесса!
— Возможно. Женщины вообще ведь часто ведут себя как дети, не так ли? И они, безусловно, гораздо богаче мужчин в духовном отношении. Пожалуй, и мои представления о свободе связаны прежде всего с душой. То есть, я хочу сказать, они как бы не совсем земные. Они не привязаны к реальной действительности… Что-то вроде выбора без последствий… А я, например, точно знаю, как вела бы себя, если б стала свободной, как дитя или как дух… Точно так же, как и теперь.
— Значит, вы счастливы, госпожа баронесса?
— Почти. Почти счастлива.
Он повернулся и посмотрел ей прямо в лицо; ему очень хотелось увидеть ее глаза, но они скрывались в тени.
— Я полагаю, что лишь люди моральные, вроде вас, Итале, могут быть либо очень счастливы, либо очень несчастны, — сказала Луиза. — А я всегда и счастлива, и несчастна одновременно, особенно в такие весенние ночи, когда не могу уснуть и вынуждена бродить по саду и размышлять о том, что же в этом мире способно все-таки сделать меня абсолютно счастливой, не принося ни капли несчастья.
— Но разве у вас есть причины чувствовать себя несчастной?
— Никаких, это правда. Действительно, я молода, богата, у меня множество прекрасных платьев и украшений; и кроме того, я всего лишь женщина, а чтобы сделать женщину счастливой, нужно совсем немного: одна-две игрушки, красивое ожерелье, веер…
— Я совсем не это имел в виду, — неловко промямлил Итале.
— А что же?
Он ответил не сразу, а когда наконец заговорил, голос его звучал глухо и холодно:
— Я не хочу, чтобы вы были несчастливы.
— Знаю. Вы хотите, чтобы я была счастлива; точнее, вы хотите СЧИТАТЬ меня счастливой, ведь это гораздо приятнее. И проще. Если я покажусь вам несчастной, вам придется как-то меня развлекать, придумывать для меня новые забавы… из самых лучших дружеских побуждений, разумеется.
— Вы же знаете, что я ваш друг, баронесса!
— Не называйте меня баронессой, пожалуйста! Оставьте в покое этот дурацкий титул! Я думаю, что и вы считаете подобные титулы сущей глупостью. Ну наш-то безусловно таков. Жаль, что у моего деда не хватило мужества предстать перед обществом в своем истинном качестве, а ведь он был одним из лучших представителей своего класса. Я, во всяком случае, определенно гордилась бы тем, что принадлежу к высшей буржуазии! Но деду пришлось купить дворянский титул — во имя процветания нашего рода; и теперь он умер, а мы по-прежнему продолжаем цепляться зубами и когтями за нижние ступени давно прогнившей иерархической лестницы, ведущей в никуда, да еще и делаем вид, что все наше благополучие покоится отнюдь не на «буржуазном» богатстве, которое, кстати сказать, и открывает нам двери в любое общество! — Луиза вскинула на Итале глаза и вдруг рассмеялась, искренне, весело. — Господи, Итале, вы, кажется, и меня заразили своими революционными идеями! Вот и я уже лекции читаю о политике — при лунном свете…
— А что, я читаю лекции?
— Почти постоянно.
— Неужели? Мне очень жаль! — Он был искренне огорчен.
— Да нет, я совсем не возражаю. Мне даже интересно — почти всегда. Во всяком случае, со мной вы обо всем говорите очень серьезно. Хотя я не всегда уверена, что говорите вы именно со мной. Зато вы никогда меня не гоните, когда разговариваете о политике с другими. И, может быть, когда-нибудь действительно станете делиться своими мыслями только со мной одной-
— Яне…
— Я знаю, что вы «не». И никогда прежде.
— Я вас не понимаю…
— Я о том, что все ваши теории, разговоры о политике, лекции тонут в молчании, в каменном, нерушимом молчании! Точнее, умолчании. Нет, я, пожалуй, возьму свои слова обратно: всего несколько минут назад вы все же это молчание нарушили, что прозвучало для меня настолько неожиданно, что я чуть не пропустила самое главное. Вы говорили о любви… Нет, конечно, не прямо, но это слышалось в каждом звуке, когда вы произносили то название… Наконец-то ваши уста исторгли нечто настоящее, а не очередную революционную идею или чью-то чужую теорию…