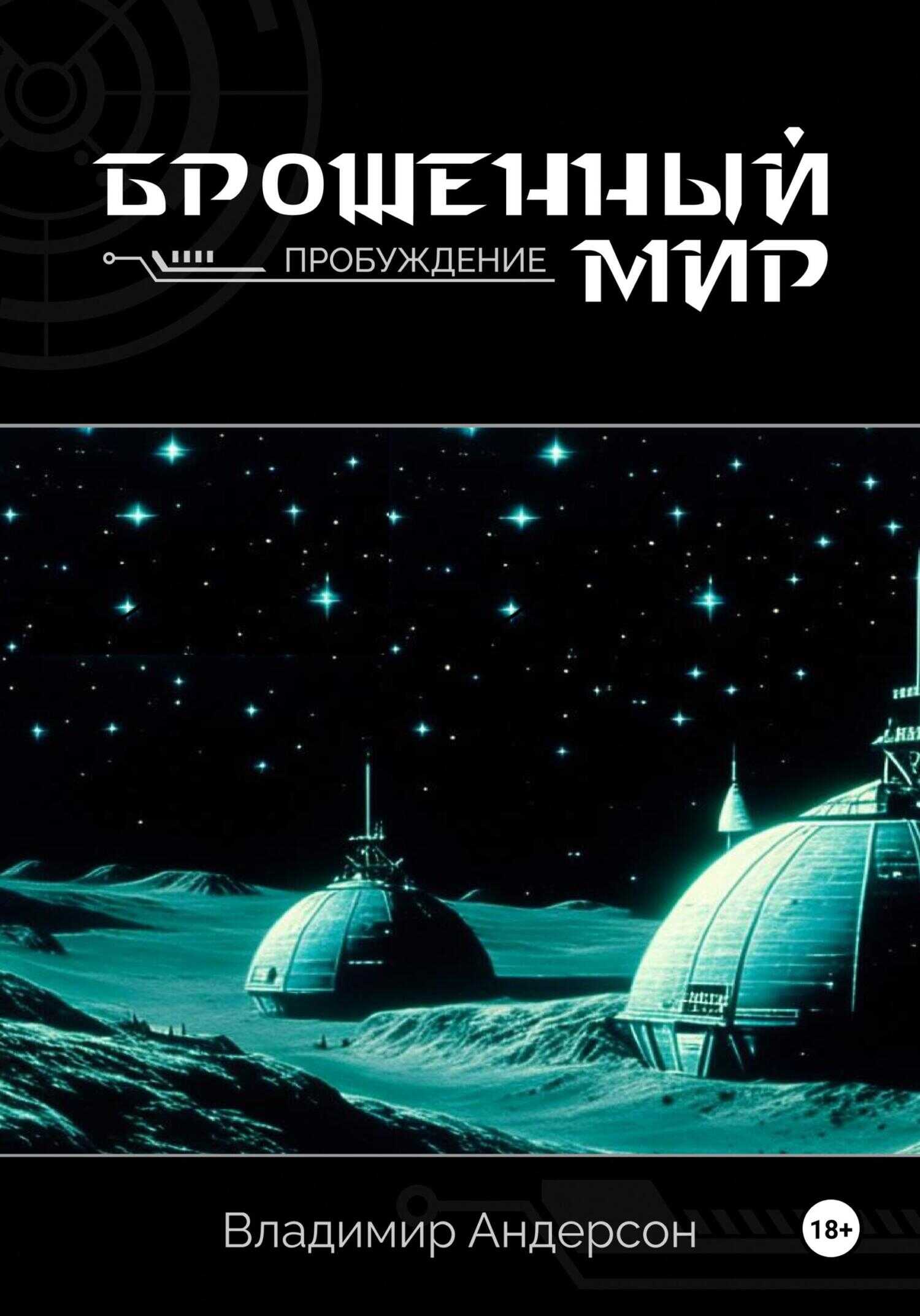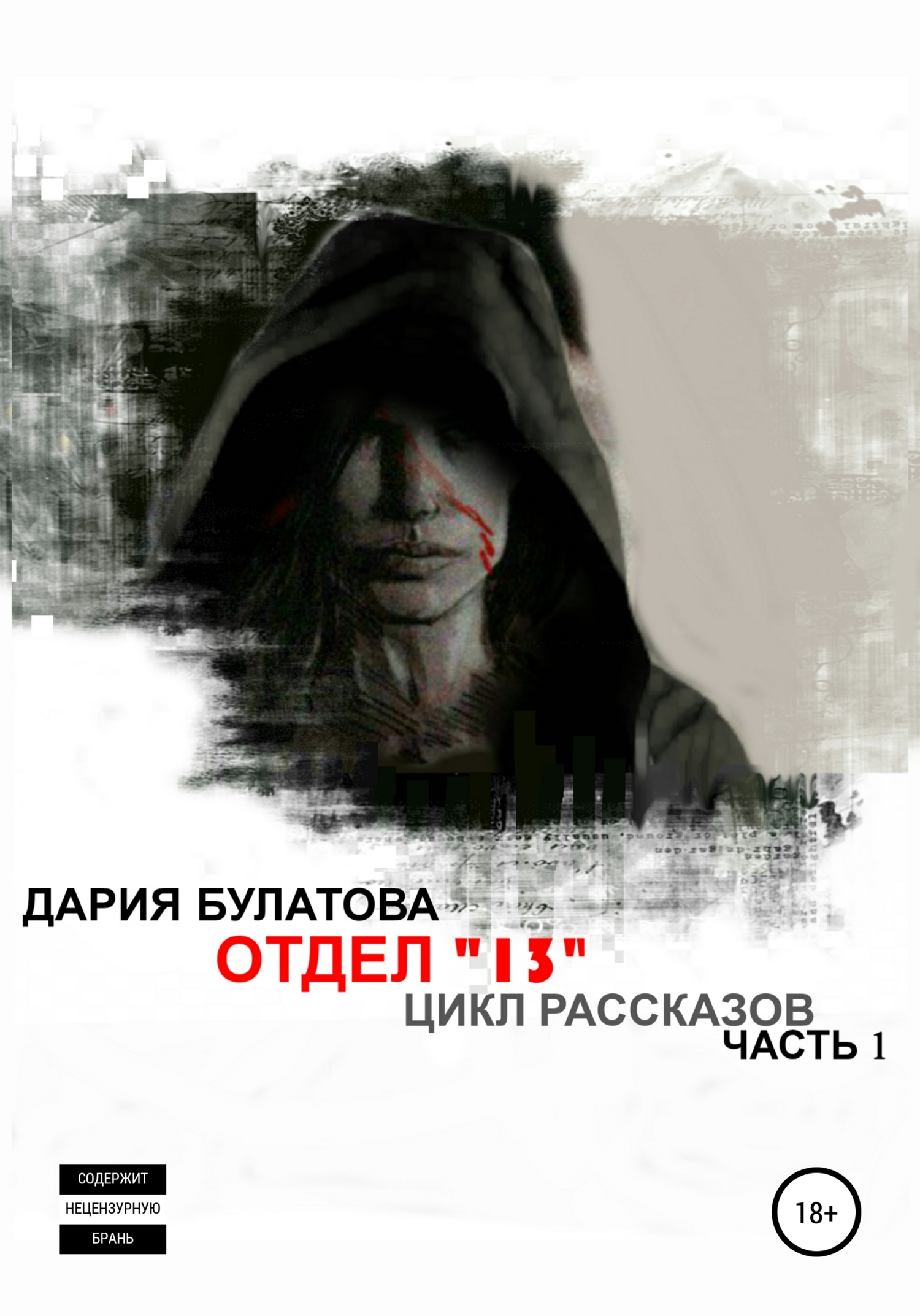Ознакомительная версия. Доступно 35 страниц из 171
частичке мать разъялась, и теперь везде. Она мне говорила, что грустить не надо. Что она в этом мире, и я в нем, и никто никуда не уходит.
А моя мамка ко мне ночами приходила, мертвая, не разъятая. Я не знал, во что лучше верить.
О смерти мы не стали, уж больно вечер был хороший. Вдруг принялись вспоминать дом, он был у каждого свой, и в то же время в каком-то смысле на всех один.
Если о жаре, ледяном чае, увитых плющом стенах домов в Миссисипи Андрей и Марина рассказывали с какой-то отстраненностью, даже скукой, то теперь передо мной оживали прямые и строгие улицы Питера, черная Нева, зеленые с белым дворцы, причудливые сфинксы, вся скорбь, вся аристократичность, все раскрашенные подъезды, фонтаны и расходящиеся мосты, тайные кафешки, о которых знают только местные, и цветочные лавки и книжные магазины, работающие круглосуточно. Оживал и Киев, розовато-серый по утрам, шумный, живой, весь в каштанах, с широким Днепром и набережными, на которых продают вкусный-вкусный кофе навынос. Хойники были похожи на Снежногорск, не в пример южнее, а застройка та же, только много, как сказал Алесь, «таких типа усадеб», и есть желтый кинотеатр, размером с магазин, а так-то все такое же маленькое, образцово-советское.
Мы сидели на берегу Тихого океана, в Лос-Анджелесе, на краю земли, все в ярких пятнах от огня и, проливая на себя американское вино, говорили о городах, по которым скучали.
Все вокруг было киношное, невероятно нереальное, и мы были нереальными, а где-то далеко, за океаном, и даже не за этим, было наше место. Мэрвину все это, ясное дело, было скучно и тоскливо, он курил сигарету за сигаретой. А я тоже рассказывал о Снежногорске, о полярной ночи, полярном дне, о вертолетах, тайге и продмаге, обо всем на свете. Ну, обо всем, что и было моим миром.
Всех нас бросило в это американское, неоновое море, и места, которые мы оставили, казались светлыми, дневными.
Такие мы стали близкие от всего этого.
– Всё, – сказал я, – можно переподписать, что там в Беловежской пуще наподписывали. Другой документ давайте.
Они засмеялись, и я неожиданно добавил:
– Вообще-то я не знаю, как все должно быть, но меня назвали в честь Ельцина.
– А я, – сказал Алесь, – в капитализм не верю, он мне маму не спас.
– Монархия должна быть, – сказал Андрейка. – Вот я при одном условии согласен опять в империю, если будет царь. Царь – это красиво.
– Монарх от Бога. А я в Бога не верю, – сказала Марина. – Но, может, хорошо бы верить. А вы как думаете?
– Я думаю, – сказал Андрейка, – у нас будет как на Западе, как в Европе. А про Бога не знаю, я его не видел и не увижу.
– Может, увидишь, не зарекайся.
– А я думаю, – сказала Марина, – что скорее будет как в Америке. Типа более дикий капитализм.
– Ну, – я пожал плечами, – мне кажется, вообще-то по-другому будет. По-другому, иначе, чем у всех. Мы ж не такие, ни азиатские, ни европейские.
– Мы ближе к Европе все-таки.
– Да, по вам монголы потоптались.
– Вы забыли Польшу! – крикнул Мэрвин, и мы стали смеяться.
Я эту шутку Буша слышал уже миллион раз, и она наконец стала смешной. Говорили еще долго, пока небо не порозовело и не стало холодно. Уснули, завернувшись в свои куртки, Алесь и Андрейка, Марина растянулась на песке, обняв себя, а мы с Мэрвином все сидели. У меня опять начала кружиться голова.
– Ты как?
– Не могу спать.
Смотрели, значит, какое небо – клубничное мороженое, ну серьезно.
– А хочешь?
– А ты как думаешь?
Я встал и поднял с песка перочинный ножик, которым вскрывали упаковку сосисок.
– Чего, зарежешь меня, дикий русский?
Я только усмехнулся, снова сел рядом, резанул себе ладонь и прижал ее ко рту Мэрвина. Он сначала удивился, округлил глаза, ужасно ржачно, беззащитно выглядел, а потом так впился, что больно стало, вытягивал кровь, высасывал, вгрызся, как безумный, и я видел, что глаза у него закрывались, закрывались. Он так и заснул – просто весь расслабился, уронил голову. С носа у него сорвалась капля крови, прям на песок. Я толкнул его назад, он не проснулся, только всхрапнул.
Сам я тоже лег, дрожал и дрожал, мне было холодно, и небо опять кружилось. На рассвете, все еще не в силах заснуть, я открыл глаза и уставился на океан. Увидел там маму, она сидела в воде, и волны омывали ее.
– Боречка, – говорила она. – Ты – это не только он, ты – это и я тоже. Ты же знаешь? И я тоже.
Протянула ко мне руку, и я знал, распухли у нее, размокли кончики пальцев, как из ванной вышла. В утреннем, слабом свете она была совершенно мертвая, ни кровинки в ней. И я вдруг вспомнил, как папа, целуя ее зубки да косточки, говорил:
– Только не бойся, Катечка, господи, как же я тебя забуду?
Я, наверное, это вспомнил, потому что отчетливо почувствовал отцовский запах поверх того, который источал мне океан. От этого или нет – а все-таки уснул.
Глава 7. Ой, темно
Так, ну тут сложно. Значит, у отца бабушкиной матери, ну той, которая жиденка спасла, брат был. Человек-то хороший, жалко, что рано сошел с ума.
В общем, он-то в Гражданскую воевал за красных, за равенство, за братство и за свободу всякую. Верил, что можно человека перешить, человека перелопатить, что станем все жить одной семьей, полюбим слабых, а сильных на хую вертеть будем.
Что станем все одинаковые, а тогда и заживем. Он был истовый коммунист, в Маркса верил, как в Бога, а Бога не боялся. Не был он циником – это для нас, крыс, редкость. Когда слышал о чужом горе, у него слезы сами лились, такая у человека душа была.
На Гражданской войне он увидел все – кишки и красные звезды, все зверства этого мира. Вернулся с медальками, поносил, поносил их да отдал своей дочери играть.
– Столько в мире боли, – говорил. – Ой, темно. И я ее увеличил, усложнил.
Такая у него вина была, стал с ума съезжать, ходил по кладбищам да смотрел, что на надгробиях пишут. Очень все точно подмечал: в землю не докричишься, такие отчаянные там слова любви, а не слышит уже никто.
Бросил жену, детей бросил, стал на кладбище жить. Вокруг коммунизм вдруг начали строить, как он мечтал, а мужик спал на могилах и грезил о том, что
Ознакомительная версия. Доступно 35 страниц из 171