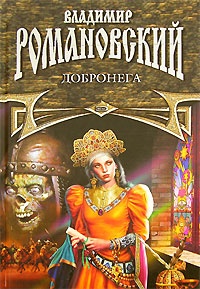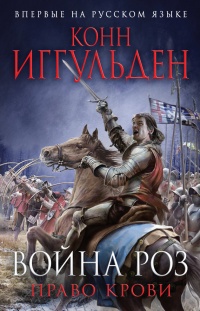— Что у тебя там? — спросил бирич обычным голосом.
— Смешно, — лаконично ответил собиратель.
Малан-младший развернул свиток, пробежал написанное, издал короткий смешок, снова сделал торжественное лицо и, обратясь к народу новгородскому, сообщил:
— Жена тиуна Пакли нынче гадать настроилась. Гадала она, гадала, ворожила себе, ворожила, да и в обморок… — он выдержал короткую паузу, чтобы выделить следующее слово, редкое в его обычном сухо-деловом государственном лексиконе, и потому звучащее в его исполнении комически, — …брык.
Толпа засмеялась.
— Лежит она себе в обмороке в опочивальне, но не просто лежит, а разговаривает на премудрых, а потому непонятных, языках. Никто не может понять, что она говорит, и… — он посмотрел в свиток —… ногой… дрыгает.
Опять засмеялись.
— А пузом она колышет? — выкрикнули из толпы.
Малан-младший проигнорировал вопрос.
— Я говорю, пузом колышет? — снова раздалось из толпы, громче.
Кто-то полез было вразумлять спрашивающего, мол, кому какое дело, колышет жена тиуна Пакли пузом или нет, но оказалось, что многие заинтересовались, и вразумляющему дали по уху.
— Я, право, не знаю, — сухо ответил Малан. — Не сообщают. От себя добавлять или предполагать что-то я не могу — это противоречит уставу биричей. На сегодня все, новгородцы. Счастливого вам дня. Уступаю место дьякону Рябинного Храма отцу Анатолию.
Некоторые стали расходиться, но большинство осталось — а вдруг отец Анатолий скажет на этот раз что-нибудь забавное?
Отец Анатолий, всегда пристраивающийся поговорить сразу вслед за биричем, взгромоздился на помост, потерял равновесие, и въехал лбом и плечом в бок вечевого колокола. Толпа разразилась хохотом. Анатолий, толстый и одышливый, коротко выругался по-гречески, потер ушибленный лоб, распрямился, колыхнув робой, и состроил фальшиво-умиленное лицо.
— Да бериежеот васс… Бох… навгороццы, — сказал он, старательно выговаривая слова. — Бох… лиубиет васс. И… граци… васс тоже. А вот послуша-ети, шето сказать мудры Эклезиастес про насс, кои являться велик грешник. Мудры Эклезиастес сказать, «Не осерчай внутри твой сердцие, ибо серчает только стоирос дубовый. А не спроси почем былые время лучший чем сейчас, потомушто не приходить от мудрости ты просить это». Что он сказал, как думать, навгороццы? А ты думать! Теперь же слушать скриптуру Лукаса.
Он развернул свиток и прочел, чище и лучше, чем когда импровизировал речь:
— «Можно ли платить кезарю десятину? Он же, поняв их хитрость, ответил, что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий. Чье на нем изображение и инсигния? Они ответили — кезаревы. Он сказал им, итак, отдавайте кезарю то, что кезарево, а Богу — Божие».
— Вятко-писец ему помогает, — сообщил Бова-огуречник, пристроившись рядом с зодчим.
— Кто такой? — спросил зодчий.
— Да служит малый при церкви у них. Анатолий ему говорит, что сказать надо на вече, а Вятко писцует это, но не так, как Анатолий сам говорит, а чтобы понятно было.
— Приходите сей ночь… вечер… на службу в церковь, навгороццы! — радостно сказал Анатолий, закончив цитировать. — Служба хорошая очень сей вечер.
— Вот ведь как у них, у греков, — язвительно сказал Бова. — Торку-богу принесешь чего, задобришь, а потом иди себе вольным орлом. А эти хотят, чтобы их Богу служили, как холопы хозяину. Служба, надо же.
Вокруг на слова Бовы закивали, радуясь, что уловили мудрый смысл изречения. Умен Бова-огуречник, это все знают.
— Да, Торку-то что, он и козлятину возьмет — да и не тронет.
— Торк — как добрый князь. А греческий Бог — так хуже Перуна. Уж это точно.
— Еще неизвестно, какой Перун был бы, если бы его гвоздями прибили.
— Какими гвоздями?
— Али не знаешь? Гвоздями.
— Кого?
— Греческого Бога. Он сначала было умер даже, а потом вдруг не умер, а выходит к грекам и говорит — вот я вас!
— Что вы плетете! — раздался рядом голос.
Повернулись на голос и увидели Репко.
— Иисус сказал, что надо любить Бога всем сердцем, а ближнего — как себя.
— Ого, — сказали ему.
— Стало быть, у них все-таки есть второй бог, и зовут его — Ближний.
— Нет, ближний — это сосед.
— Чей сосед?
— Твой сосед.
— У меня сосед Коваль. Такая свинья неушибленная, что хоть плачь. Это он и есть — второй греческий Бог?
— Нет никакого греческого бога! — рассердился Репко. — Есть один Бог — для всех.
— Вона как! Все знает наш Репко.
— Да что вы его слушаете! Он же ковш. Все ковши знают всё обо всём. Они же себя умнее всех считают.
— Я в Новгороде родился, — сказал Репко.
— А родители-то ковши.
— Выходит, Репко, что и ты ковш, как твои родители, как ни крути.
Ковш Репко махнул рукой и отошел в сторону.
— Ишь обидчивый какой, — сказала дородная жена ремесленника, водрузив пухлые ладони на жирные бока. — Все ковши грекам за греческие деньги продались. Что бы мне не сказали, а уж в этом не разубедишь. Это всем ясно.
— Вот бы нас кто купил, хоть бы и за греческие, хоть за печенежские, — сказал насмешливо плотник. — Но не хотят.
— Это потому, что знают, какой мы народ. Мы любим, чтобы нам самим по себе все время.
— Не всегда и не все, — подсказал ратник.
Все оглянулись на ратника и слегка смутились.
— Вон стоят, — сказал ратник. — Вон они. Сынки да дочки знати нашей. Ничем их не проймешь, ничего им не любо. Ни край родной, ни наследие отцов. Посмотрите — они и одеваются как ковши, и даже говорят как ковши. Послушаешь — не скоро разберешь, что они говорят.
Группа знатной молодежи действительно толклась не слишком близко и не слишком далеко от помоста, и одежды юношей и девушек в самом деле были киевского покроя — но с нарочито-утрированными деталями. У некоторых юношей сленгкаппы имели на спине разрез от самого верха к краю, что позволяло им вскидывать половинки вверх, как крылья, или наматывать одну из половинок на шею. Шапки выглядели декоративно, состояли из одних околышей, и околыши эти отличались несуразностью цветов — зеленые, фиолетовые, ярко-синие. Поневы некоторых девушек сделаны были из тонких кожаных плетенок и заканчивались чуть ниже колена, а константинопольские сандалии держались на кожаных тесемках, спиралью облегающих ноги до колена и, очевидно, выше. Головные уборы девушек напоминали нарочито грубо оторванные и дырявые куски невода. На лицах юношей и девушек играли циничные улыбки. Дети знати перекидывались саркастическими фразами.
— Значительно лучше стал Анатолий щелкать, — заметила одна из девушек томным голосом. — Скоро сам понимать начнет, что долдонит.