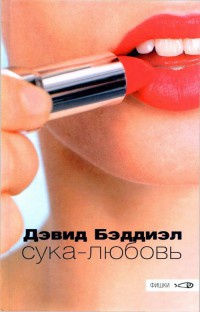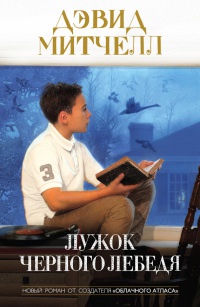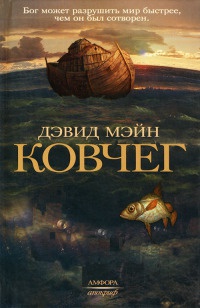– А когда скажешь ей – будешь жить со мной? – спросила Эмили.
Они пристально смотрели друг на друга.
– Не знаю.
Эмили отвела глаза. Отложила брошь и подлила себе кофе из кофейника. Ее рука немного дрожала.
– Тогда зачем?
– Чтобы сказать правду.
– Ну давай, говори.
– Я хочу, чтобы все было…
– По-моему, ты врешь, – сказала Эмили. – К правде это не имеет никакого отношения. Ты что-то задумал, у тебя есть какой-то план. Мне плевать, знает она или не знает. Я хочу, чтобы ты жил со мной, а не с ней. И я всегда хотела только этого.
– Когда он скажет ей, – Пинн улыбалась загадочной полуулыбкой, глядя не на Блейза и не на Эмили, а на Монти, – то есть если он, конечно, скажет, не передумает, – ему придется жить с тобой.
Монти, сам того не желая, тоже смотрел на Пинн.
– Не понимаю, почему придется, – сказала Эмили. – Может, все наоборот? Может, он хочет ей сказать, чтобы избавиться от меня? Например, она возьмет и запретит ему со мной встречаться. А что, это ее право. Она его жена, как он нам только что любезно напомнил. Ему придется сделать выбор, и он вполне может выбрать ее. Сейчас он хотя бы не обязан выбирать.
– Если он ей скажет, ты победишь, – сказала Пинн, по-прежнему загадочно улыбаясь Монти, словно эти слова предназначались ему.
– Почему ты так думаешь?
– Это развяжет тебе руки. В открытой борьбе ты пересилишь ее в два счета. Разобьешь в пух и прах, тебе только дай волю.
– Хотела бы я быть такой оптимисткой, – сказала Эмили. – Чем прикажешь ее бить, бутылками? Берите бутерброд, мистер Смолл. Не понимаю, зачем Блейз притащил вас с собой, – чтобы вы слушали весь этот бред?
– Вот, возьмите с огурчиком, – сказала Пинн. – Вкусный.
– По-моему, то, что я сообщил, не очень тебя заинтересовало, – сказал Блейз. – Хотя, возможно, мне и правда не стоит ей ни о чем рассказывать.
– Как угодно. Пинн, дорогая, ты не могла бы принести влажную тряпку? У меня кофе пролился.
Пинн принесла тряпку, и они вдвоем принялись подсовывать ее под скатерть в месте кофейного пятна. Закончив, Эмили снова пристегнула камею к платью, на сей раз посередине.
– Почему вы не написали ни одной пьесы с Мило Фейном? – спросила Пинн у Монти.
– Пробовал, но ничего путного не вышло.
– А я вот написала пьесу, – сказала Пинн. – Про школу для девочек. Она такая, не совсем приличная. Нужен, наверное, агент?
– Чтобы ее поставить? Да.
– Не посоветуете кого-нибудь?
– Эмили, – сказал Блейз.
– Да?
– Ты столько лет требовала, чтобы я рассказал Харриет.
– Ничего подобного. Я требовала, чтобы ты был со мной. Ее душевное состояние меня не интересует. И вот теперь я спрашиваю, будешь ли ты со мной, а ты мне говоришь «не знаю». Насколько я понимаю, это значит «нет».
– Я не могу решить сразу все. Если бы ты знала, как мне трудно сделать этот шаг…
– Так не делай. Чего ты от меня хочешь – сочувствия? Пинн, пожалуйста, принеси еще горячего молока.
– На самом деле, – сказал Монти, спуская Бильчика на пол, – Блейз прав в том смысле, что нельзя решить сразу все. Сейчас, скорее всего, он и сам не может знать, что будет дальше, потому что не может всего предусмотреть. Но я, пожалуй, согласен с вашей подругой в том, что все еще может обернуться для вас наилучшим образом. А главное, хоть что-то изменится.
– Большое-пребольшое вам спасибо, – сказала Эмили.
– Мистер Смолл прав, – сказала Пинн, ставя молочник на стол.
– Я хотела, чтобы ты ей сказал, – думала, пусть все будет честно и правильно… справедливости мне хотелось. Боже ты мой, чего только мне не хотелось! Хотелось всего, а пришлось довольствоваться крохами, которые ты подсовывал мне в обмен на мою жизнь, – на всю мою жизнь!.. Я и сейчас хочу всего и рассчитываю на все. Понимаю, что я дура. Дура, камень у тебя на шее и так далее. Но видишь ли, я по-прежнему люблю тебя (вот уж точно, дура!) и хочу, чтобы ты был моим мужем, настоящим мужем, чтобы мы жили в настоящем доме и чтобы ты заботился о нас с Люкой, – не видно разве, как нам нужна эта забота? Но ведь мы не сами по себе такие жалкие, это ты нас довел! Это же такая подлость, такой ужас, что невозможно выразить словами. Это как голод, война, чума. Ты хуже Гитлера, тебя убить мало за то, что ты с нами сделал! И ты же еще являешься ко мне со своим чертовым свидетелем и заявляешь, что ты, видите ли, «решил сказать жене»? А мне что прикажешь делать, радоваться? Вести с тобой светский разговор о том, как она соблаговолит поступить? Умирающие от голода и чумы не ведут светских разговоров. Да плевать мне, скажешь ты ей или не скажешь. Мне нужна справедливость – ничего больше. Если захочу, она и без тебя все узнает. Могу хоть сейчас набрать ее номер и все рассказать. Так что не тебе одному все решать. О господи, какого черта ты все это на меня вывалил? Какого черта ты привел сюда своего чертова свидетеля? Убирайся! Убирайся!..
По ходу своей тирады Эмили сначала бледнела, потом краснела, теперь она громко разрыдалась – и оказалась как-то сразу за пеленой слез. Сквозь всхлипывания она время от времени глухо рычала, как испуганный озлобленный зверек. Потом зажала рот рукой и стала кусать себя за ладонь.
– Эмили, прекрати, – сказал Блейз.
– Эм, успокойся, – сказала Пинн.
Вцепившись в ладонь зубами, Эмили встала и быстро вышла из комнаты. Дверь за ней тихо закрылась.
Монти положил на скатерть размякший бутерброд с огурцом, который он все это время держал в руке, и тоже встал.
– Думаю, мне лучше уйти.
– Я провожу тебя, – сказал Блейз.
Выйдя, они свернули на выложенную плиткой тропинку и чуть не бегом устремились прочь от дома. Лишь дойдя до дороги, замедлили шаг. Было пасмурно и тепло, опять собирался дождь.
– Извини, – сказал Монти. – Мне не стоило приходить. Это была плохая идея.
– Я думал, она обрадуется, – сказал Блейз.
На углу остановились.
– Ну, тебе надо возвращаться, – сказал Монти.
Послышался частый стук каблучков по асфальту: их догоняла Пинн.
– Ты что, не собираешься идти к ней? – крикнула она издали.
– Иду, уже иду.
– Так давай, у нее истерика.
Блейз обернулся к Монти.
– Извини, что не смогу тебя отвезти. Пройдешь по улице немного вперед, там можно поймать такси. Ну пока. Спасибо тебе. – И он ушел, оставив Пинн и Монти вдвоем.
– Я хочу встретиться с вами снова.
Пинн проговорила это медленно и без всякого выражения – так некоторые эстеты читают стихи. Глаза за раскосыми стеклами модных очков были серьезны, почти печальны.