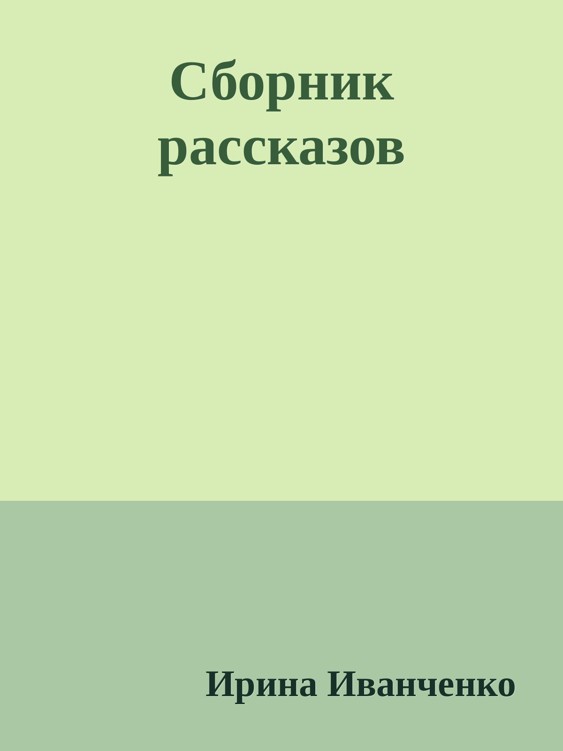не бессеребренник старичок. А где же все люди твои?
– Кто посмекалистей, ин грех за собой чуял – разбежались, в разбойники надыть. Рядовых по острогам развезли. Тута со мной Медведь токмо, Овчину видал поди, отрекся, еже не ведал.
– Он донес на тебя?
– Не, тот со страху отрекся. Да разве важно теперь? Не один сице другой, а то и третий. Сказываю – конец един.
– Не обманывай себя, Мартемьян, все могло быть иначе. – Сердился Завадский.
– Не трави, и так тошно, братец. Прилягу пойду, руки отекают…
Мартемьян Захарович смешно лег в колодке набок, как играющий ребенок, задравший руки.
– А ведаешь, еж разумею, Филипп, – сказал он, лежа, – паче дивлюсь, еже тебя сюды пихнули. Обо мне приказ доставить в Томский град и казнить иным в назидание. А ты же для них простой разбойник. Тебя паче без дознания и тут могут вздернуть.
– Так и хотели, но ты говоришь, он вор?
– Разумею, еже так, обаче [однако] ведь он не дурак, тебя резать, что кокошку несущую златые яйца. – Мартемьян вдруг резко сел. – Авось замолвишь, еже так станется?
– Даже, если так и станется, Мартемьян, какое место тебе в этой цепочке? Ты для них не просто теперь что собаке пятая нога, живой ты теперь для них смертельная угроза.
– Твоя правда… – взгляд Мартемьяна потух, он снова лег, на этот раз тяжело, как старик.
Завадский поднялся, подошел вплотную к решетке, глядя на бывшего приказчика.
– А скажи, Мартемьян, получи ты второй шанс прожить свою жизнь заново, что ответил бы ты мне тогда?
Мартемьян медленно моргал, глядя на него.
– Что ответил бы? Служить тебе прохвосту, изворотливому змию, вору по роду? – улыбнулся он печально. – Я бы сказал «да», братец Филипп, а жалею токмо об том, что не знался с тобой ране.
***
Глубокой ночью раздались стуки. Завадский понял, что спит, когда увидал перед собой гигантскую треугольную рожу. Тревожная хмарь в мгновение ока изгнала кошмар, он очнулся в холодном поту: где я, в каком аду? Черные бревна, пляшущая полутьма, решетки, стоны. Тени отперли тяжелые скрипучие замки, грубо схватили связанного по рукам Филиппа, потащили в глухую ночь.
Втолкнули в жаркую избу, бросили к ногам Пафнутия Макаровича. Тот щурил на него мартышечье лицо, глядя с властным отвращением, словно на таракана в банке. Рядом стояла страшная «оглобля» в кафтане, свет лучин истончал и удлинял его фигуру к потолку, под которым, казалось, он склонялся и нависал над Завадским.
Рядом же стоял, широко расставив ноги казацкий пятидесятник – невысокий, но крепкий и ладный мужик с сообразительными глазами, руки его в перчатках спокойно лежали на рукояти палаша.
Завадский поднял голову, посмотрел на Пафнутия и понял, что Мартемьян был прав. Пафнутий двинул пальчиком, и крепкий пятидесятник прошел к выходу, тяжело скрипя половицами.
– Шныра, подит-ко сюды! – раздался за спиной его властный голос.
Раздалось шуршание. Следом на пол перед Завадским приземлился клочок коричневой мятой бумаги – будто высушенной после намокания.
– Грамоте обучён? – спросил Пафнутий.
– Да.
Хотя было темно и писано по-старому, смысл легко понимался: пшена пятьдесят пудов, сала двести фунтов, сушеной рыбы сто пятьдесят, сливочного масла сто фунтов и так далее – список был немаленький.
– Во-ся, неключимый, милостью Божией даем тебе деяниями государеву полезными искупить вину свою. Брашно по памяти доставишь сюды к исходу седмицы. Ежели не исполнишь, людей своих боле не увидишь. Таже [потом] поглядим. За мной слово и покровительство, за тобой – служба верного пса. Жировать не будешь, но тебя никто не будет трогать, зная чей ты пес. Ристать [бежать] не придется, но ежели станется – блуднявую общину твою спалим дотла. Весно нам иде скутаетесь [скрываетесь]. Пафнутию все весно.
– Я все достану. – Сказал Завадский. – Но мне нужны мои люди, чтобы уложиться в срок. Они же охраняют обоз.
Старичок наклонился, и «оглобля» болезненной пощечиной огрел Завадского по уху.
– Благодари боярина, возгря!
– Спасибо!
– Ча-во?
– Благодарю!
– Единако [также]. – Сказал мартышечьелицый Пафнутий, когда Завадского поставили на ноги. – Прелестничать [обманывать] и воровать станешь – сход [исход] он же [тот же]. Второго искупления не будет. Люди твои под спудом в остроге хорониться будут яко аманаты [заложники]. Мочно менять их еже онагров, но дюжина твоих аманатов зде пребывати станут присно.
Завадскому дали только лошадь из их же обоза и крестьянский зипун. Вывели за ворота, оставили одного. Лошадь топталась, фыркала в ночи, стучала зубами. Завадский кое-как сел на нее, помня, как это делали другие – то есть ухватившись за гриву и седло и оттолкнувшись свободной ногой от земли. Лошадь нервно заходила, ощутив неуверенного ездока, но Завадский усидел, наклонив корпус, не подозревая, что совершает ошибку. Тем не менее она сама понесла легкой рысью в правильном направлении, едва он ее «пришпорил».
Филипп решил ехать с риском по дороге, благо сама лошадь знала этот путь, но минут через тридцать, он заметил, что лошадь под ним нервничает и норовит взбрыкнуть. Завадский сильнее пригнулся, вцепившись в гриву, но животное поддало задом, легко сбросила Филиппа и перескочив через него, ускакало.
Завадский выругался, вглядываясь в рассеченную тьму. Лишь по смутным очертаниям верхушек деревьев угадывалось направление. Он побрел по дороге, ругая себя, что не нашел времени выучиться езде на лошади. Периодически звал лошадь: «эй, ты где?» и прислушивался. Иногда чудилось как будто фырканье где-то неподалеку, но он всякий раз признавал, что выдает желаемое за действительное.
Примерно понимая лошадиные повадки, он решил, что она поскакала в общину. В лесу ей делать, конечно, нечего, пойдет она полями и дорогами. Вот только пешком он сам доберется до общины едва ли за неделю, а значит пропал его спешно придуманный план и, следовательно, пропали его люди. Филипп сердился, но шел упорно, изредка зовя лошадь, понимая в то же время, насколько это пустое занятие. Крики позволяли отвлекаться от мыслей. Новые призраки вставали перед глазами – Ерема, Мартемьян Захарович. Говорили, улыбались, сквернословили, делали доброе и творили всякое дерьмо, жили, одним словом. Но кто они ему? Всего лишь случайные попутчики в пространственно-временной клоаке, в которую его низвергли – существовали ли они вообще, эти небезгрешные агнцы, или быть может это творение его шизофренических видений? Но ведь говорили и молчали, будто живые, а значит были, ибо как наставлял ты настоящий? И