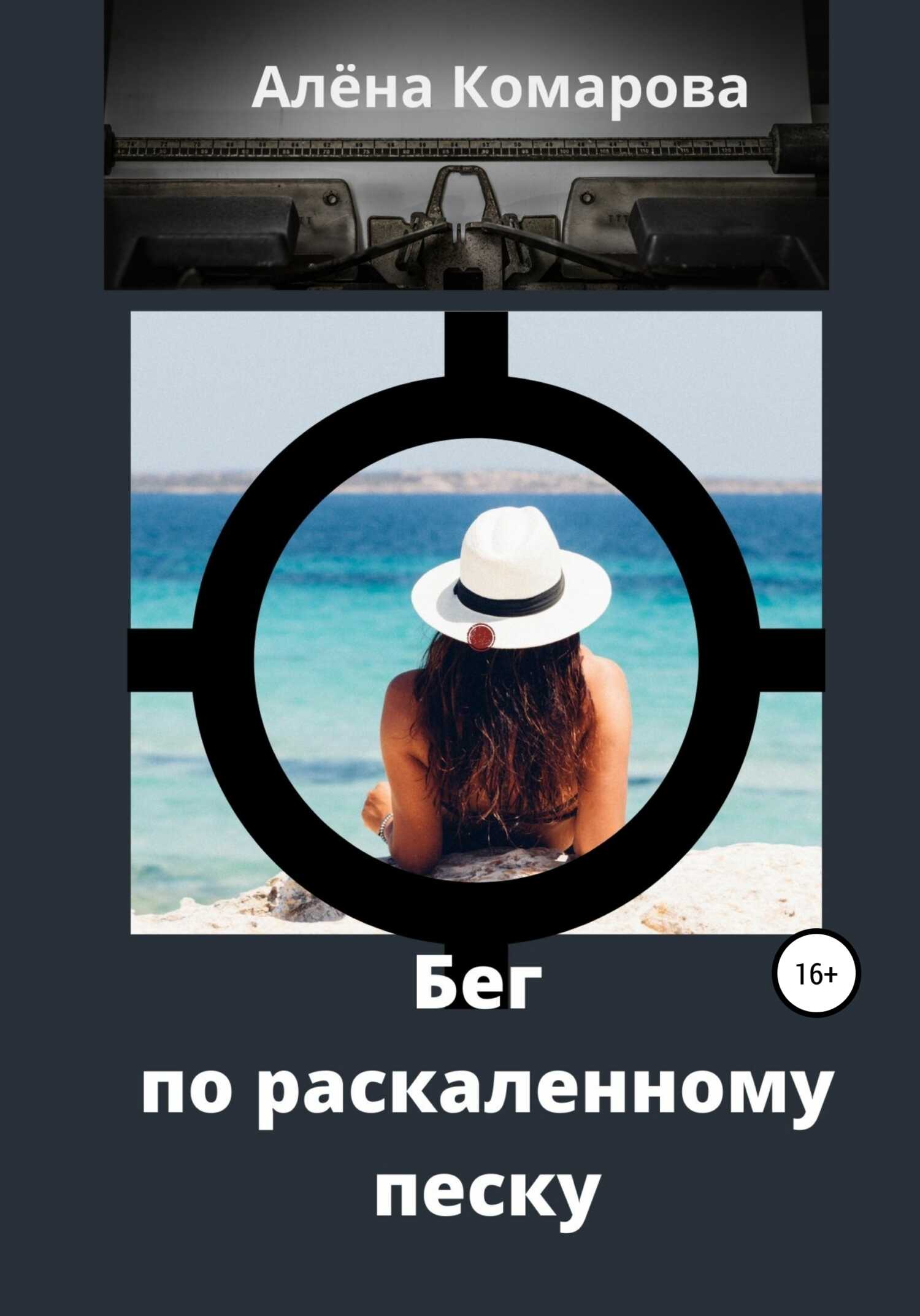Потом подскочил и стал одеваться. Рванул на кухню, а там бабка наливает водку поджарому седому мужичку.
– А, Ян… – жуя закуску, вроде как поздоровался мужичок и кивнул на табурет. – Садись давай.
Ян сел. Слышать здесь чей-то голос, кроме своего, было непривычно и неприятно.
Мужичок вытер руки о засаленные джинсы, протянул ладонь.
– Женя, Марысин внук. Ну, давай, – он наполнил Яну рюмку. – Дрябнем – и за работу.
Ян согласился, с трудом представляя, какая после такого завтрака может быть работа.
Мужичок не шутил. Едва они выпили пару ледяных стопочек и закусили яичницей, зажаренной на сале, как Женя повел Яна во двор, где стояли разобранные едва ли не до остова «Жигули». Рядом, на только что скошенной траве, чернели детали машины, рассортированные по принципу, известному только Жене.
От непривычного завтрака живот Яна крутило, но работа спорилась. Чистили, смазывали, устанавливали тормозные барабаны. Затем – колодки, накладки, генератор, стартер. Возвращали к жизни старенькие, в ржавых веснушках, «Жигули». Солнце припекало голые плечи и непокрытые головы.
Мужик к труду оказался привычный, руки в мозолях. Работал ловко и быстро, но язык за замком не держал. Изливал душу, щедро окропляя скорострельную речь междометиями, не все из которых Ян слышал раньше.
Женя рассказал о своей семье: развод, двое деток, сожительница с сыном-подростком. О любимой работе автослесаря, которая так его вдохновляла, что он начал писать о машинах стихи. О теще, вынимающей душу даже после развода. О небе, на которое любил смотреть.
Вернулись после полудня, мокрые от пота. Помылись обжигающей колодезной водой. Снова выпили. Внучок хоть и размяк, но на бабку стыдливо косился и выраженьица свои держал при себе.
– Так ты животных любишь? – спросил Женя, опрокинув стопку. Ян приподнял бровь. – Марыся говорит, когда ты в бреду лежал, все шептал «котенок, котенок…»
Ян не нашелся, что ответить.
Странное дело – подсознание. Ведь так он называл Кэт всего пару раз. Почему же в беспамятстве выбрал именно это слово?
А Женя все говорил и говорил. Взаимной откровенности, к счастью, не требовал. Ян охотно слушал, время от времени густо намазывая ломти хлеба домашней тушенкой.
– И что, по-твоему, жизнь полосатая, как зебра? – спросил Ян, когда Женя, устав от водки и собственной говорливости, подпер красную щеку кулаком.
– Да, часто так и бывает, так и воспринимается человеком.
– Тогда моя жизнь – это зебра, попавшая под грузовик, – заключил Ян. – Когда я думаю о своей жизни, то представляю такую картину.
Женя окосело прищурился, словно хотел получше рассмотреть Яна.
– Эх, Ян! Ты ж почти мой ровесник, а такой… – снова покосился на бабку, – дурень!
И Женя рассказал историю Марыси. Как жила она в деревушке на Немане с мужем и семью детьми. Началась война. Пришли немцы и как-то решили утроить забаву: приказали мужу переплыть Неман, а то расстреляют. Река широкая, быстрая. Женин дед мужиком был сильным и пловцом неплохим, но после четырех «переправ» лег на землю. Все, не мог больше. Немцы его и застрелили – на глазах у семьи. Вот Марыся тогда и онемела. Ни одного слова больше не сказала. Молча детей подняла, всех семерых. Что ей пережить пришлось, одному Богу известно.
– А если бы сломалась, если бы хоть раз подумала, что жизнь ее похожа на зебру под грузовиком, меня бы не было. Голопузов бы моих не было. Племяш бы мой, хирург, детя́м сердца не пересаживал. Понимаешь?! А ты… Жизнь – это белая полоса. Почти всегда белая. Черная – если тебе реку надо переплыть, а сил нет. Если семь голодных ртов зимой. А под грузовик – это ерунда, это современное искусство. Авангард или как там. Пшик, в общем.
Ян придвинул шаткую табуретку к стене, прислонился спиной, прикрыл глаза. А Неман все шумел, и волны на нем вздымались, как на море. Где-то среди этих волн плыл человек. И если хорошо приглядеться, можно было рассмотреть шрам на его щеке.
* * *
Из-за отсутствия доски для объявлений Катя прямо на двери нарисовала тюбиком с клеем жирный крест и поверх старых черно-белых рекламный объявлений наклеила свое, ультразеленое. Еще недавно в ее руках пестрела стопка подобных листков: апельсиново-оранжевые, розовые, как фламинго, желтые, словно одуванчики. На объявлениях красовался забавный слоненок, поднимающий хоботом гантель. Подпись гласила: «Хватит СЛОНяться! Занимайтесь спортом!» И ниже, шрифтом помельче: «Рядом с вами открылся тренажерный зал». Катя выполнила план на сегодня – наклеила сто пятьдесят таких листков по всему району.
Кроме расклейки объявлений она уместила в одни сутки подработку уборщицей в соседнем магазине, смену в казино, курсы английского, зубрежку английского, короткий сон – и все еще оставалось время, чтобы ждать Яна. Словно сутки раздвинулись, впустили в себя больше двадцати четырех часов. Пока Катя работала или училась, ожидание тлело спокойно и ровно, как уголек. Но стоило остановиться, раздувалось пламя. Горело в солнечном сплетении, жгло глаза.
Самым тяжелым было время перед сном. Если Катя не выматывала себя настолько, чтобы забыться сразу, воображение снова рисовало дорогу, по которой шел Ян. Там дул шквалистый ветер, палило солнце. Иногда, уже в полудреме, она видела его в подвале среди крыс, которые пожирали контрольные ее мамы. Почти каждую ночь ей снилось, что он вернулся.
Краем глаза Катя заметила, что на крыльцо поднялся седовласый мужчина. Остановился позади ее, рассматривая наклеенную на дверь рекламу. Катя внутренне сжалась: наверное, она никогда не привыкнет к грубости.
– Наконец-то что-то жизнерадостное, – сказал мужчина и оторвал клочок объявления с номером телефона.
Катя подождала, когда дверь подъезда закроется. Опустилась на верхнюю ступеньку крыльца, глотнула воды из пластиковой бутылки. На то, чтобы завинтить крышку, едва хватило сил. Но на обратном пути Катя привычно зашла в церквушку, под чей колокольный звон она теперь часто просыпалась по утрам. Сидела на скамье до вечерней службы, молилась, как умела, ставила свечи за здравие.
Дома сняла одежду, пропахшую пылью и потом. Не включая света, надела ношеную майку Яна. Рухнула на его кровать, комом скрутила под щекой простынь. И в этот момент ей почудилось, что Ян увидел в конце дороги смутные, как мираж, очертания многоэтажек.
* * *
Через две недели, завершив все дела, Ян вошел в избу. Бабка только затолкала чугунный горшок в печь и оперлась о кочергу, чтобы передохнуть. Все поняла без слов. Отпустила. Только глаза ее стали печальнее. Жестом подозвала Яна, обхватила шершавыми ладонями его голову, наклонила к себе и трижды, звучно, крепко, расцеловала в щеки. А потом еще долго не убирала руки, все смотрела Яну в глаза,