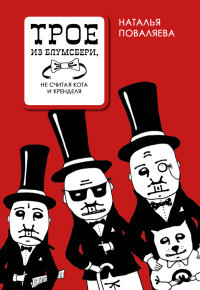нечто такое «Лю-уди Кэ-эмпбе-елла-а иду-у-ут, охо-хо-о-о! Охохо-о-о!» Я про себя подумал: «Вот она где, современная музыка». Я люблю старинную музыку органа, с единственными тональностями до и фа и с соответствием слогу каждой ноты. Какое впечатление производили долгие, длящиеся тоны там, где «Вотще глас почестей гремит перед гробами...»[325].
А кому захочется слушать духовную музыку, исполняемую на фортепьянах?
Мистер Мифасоль:
— Однако, должен заметить, какая прелесть в блеске и виртуозности исполнения — новом, даже новейшем достижении музыкальном!
Мистер Принс:
— Для тех, кто ее улавливает. Ведь как на что посмотреть. Для меня нет прелести в музыке без силы чувства.
Лорд Сом (заметив неохоту мистера Мак-Мусса вступать в беседу, он забавляется тем, что то и дело справляется о его мнении):
— А как, по-вашему, мистер Мак-Мусс?
Мистер Мак-Мусс:
— Я держусь мнения, которое уже высказывал, что лучшего портвейна я в жизни своей не пробовал.
Лорд Сом:
— Но я имел в виду ваш взгляд на музыку и музыкальные инструменты.
Мистер Мак-Мусс:
— Орган весьма пригоден для псалмов, а я их не пою, фортепьяна же для джиги, а я ее не танцую. И если бы не услышал их ни разу от января до декабря, и то я не стал бы жаловаться.
Лорд Сом:
— Вы, мистер Мак-Мусс, человек практический. Вы радеете о пользе — о пользе общественной, — и в музыке вы ее не усматриваете.
Мистер Мак-Мусс:
— Ну, не совсем. Если набожность хороша, если веселость хороша, а музыка им содействует, когда это уместно, то и в музыке есть польза. Если орган ровно ничего не прибавляет к моей набожности, а фортепьяна к веселости, в том повинны мои уши и моя голова. Я, однако, никому не навязываю своих понятий. Пусть каждый радуется как умеет, лишь бы он не мешал другим; я не стану мешать вам наслаждаться блистательной симфонией, а вы, надеюсь, не отнимете у меня наслажденья стаканом старого вина.
Преподобный отец Опимиан:
Tres mihi convivae prope dissentire videntur,
Poscentes vario multum diversa palato[326][327].
Мистер Принс:
— А у нашего друга и пастыря — удовольствия от старинной цитаты. Преподобный отец Опимиан:
— А также и пользы от нее, сэр. Ибо одной из подобных цитат я, полагаю, обязан честью вашего знакомства.
Мистер Принс:
— Когда вы польстили мне, сравнив мой дом с дворцом Цирцеи? Но это я оказался в выигрыше.
Мистер Шпатель:
— Но вы согласны, сэр, что греки не знали перспективы?
Преподобный отец Опимиан:
— Но они в ней и не нуждались. Они рельефно изображали передний план. Фон у них был только символом. «Не знали» — пожалуй, слишком сильно сказано. Они учитывали ее, когда им это было необходимо. Они вырисовывали колоннаду в точности, как она являлась взору, не хуже нашего. Одним словом, они соблюдали законы перспективы в изображении каждого предмета, не соблюдая их для сочетаний предметов по той уже упомянутой причине, что не усматривали в том надобности.
Мистер Принс:
— Меня их живопись пленяет одним своим свойством, насколько я вижу его по картинам Помпеи, хоть и являющим не высший образец их искусства, но позволяющим о нем судить. Никогда не нагромождали они на своих полотнах лишних фигур. Изображали одного, двоих, троих, четверых, от силы пятерых, но чаще одного и реже — более трех. Люди не терялись у них в изобилии одежд декораций. Четкие очерки тел и лиц были приятны глазу и тешили его, в каком бы углу залы их ни поместить.
Мистер Шпатель:
— Но греки много теряли в красоте подробностей.
Преподобный отец Опимиан:
— Но в том-то главное отличие древнего вкуса от новейшего. Грекам присуща простая красота — будь то красота идей в поэзии, звуков в музыке или фигур в живописи. А у нас всегда и во всем подробности, бесконечные подробности. Воображение слушателя или зрителя нынешнего ограниченно; в нем нет размаха, нет игры; оно перегружено мелочами и частностями.
Лорд Сом:
— Есть прелесть и в подробностях. Меня в восхищенье привела картина голландская, изображающая лавку мясника, а там вся прелесть была в подробностях.
Преподобный отец Опимиан:
— Ничем подобным я не мог бы восхищаться. Меня должно пленить сперва то, что изображено, а уж потом я стану пленяться изображением.
Мистер Шпатель:
— Боюсь, сэр, как и все, мы впадаем в крайности, когда речь заходит о любимом нашем предмете, так и вы считаете, что греческая живопись лишь выигрывала, не имея перспективы, а музыка греческая выигрывала, не имея гармонии.
Преподобный отец Опимиан:
— Полагаю, и чувства перспективы и чувства гармонии вполне доставало им при простоте, свойственной их музыке и живописи в той же точно мере, как скульптуре их и поэзии.
Лорд Сом:
— А вы как полагаете, мистер Мак-Мусс?
Мистер Мак-Мусс:
— Я полагаю, неплохо бы опрокинуть вот эту бутылочку.
Лорд Сом:
— Я справлялся о вашем мнении касательно перспективы греческой.
Мистер Мак-Мусс:
— Господи, да я того мнения, что бутыль издали кажется меньше, чем она же оказывается вблизи, и я предпочитаю видеть ее крупным предметом на переднем плане.
Лорд Сом:
— Я часто удивлялся, отчего господин, подобно вам наделенный способностью рассуждать обо всем на свете, столь тщательно уклоняется от всяческих рассуждений.
Мистер Мак-Мусс:
— Это я после обеда, ваше сиятельство, после обеда. С утра я потею над серьезными делами до того, что иной раз даже голова разболится, правда, она, слава богу, редко у меня болит. А после обеда я люблю раздавить бутылочку и болтаю всякий вздор, самому Джеку из Дувра впору.
Лорд Сом:
— Джек из Дувра? А кто это?
Мистер Мак-Мусс:
— Это был такой парень, который все ездил по свету и хотел найти дурака еще хуже себя, да так и не нашел[328][329].
Преподобный отец Опимиан:
— В странные он жил времена. Ныне бы он сразу напал на убежденного трезвенника либо на поборника десятичной монетной системы или всеобщего обучения или на мастера проводить конкурсные испытания, который не позволит извозчику спустить бочку в погреб, покуда тот не представит ему математического обоснования этого своего действия.
Мистер Мак-Мусс:
— Ну, это все глупость докучливая. А Джек искал глупости забавной, глупости совершеннейшей, которая бы «сводила с ума»[330], хоть и глупость, а была бы веселой и мудрой. Он не искал просто набитого дурака, в