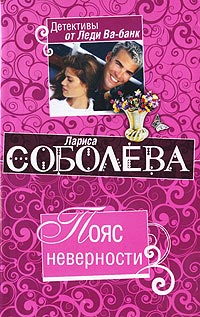Тихий Пьяница, сурово сжимая крепкие массивные челюсти, ведет машину как бог — в своем «стетсоне», к ленте которого приколот значок муниципальных железных дорог. Руль держит мертвой хваткой, обеими руками, выбивая барабанную дробь на рулевом колесе. Большие, тяжелые, массивные руки, но он не поет в такт ритму.
— Миром правят правильно поставленные задачи, мое дело рулить, твое дело — петь, и таким наш мир останется на ближайшие пятьсот миль.
Тихий Пьяница, как становится известно Габриалю, принял свое прозвище не из-за пристрастия к спиртному, но скорее из-за идеи. Идея же заключается в том, что вся жизнь есть не что иное, как долгая, тихая, неспешная пьянка.
— Я зрю в корень пьянства. Все начинается с ясной головы, тонкого вкуса, и аромат вина манит нас за собой. Рано или поздно мы начинаем шататься, падать и смеяться, когда нам показывают пальчик. Назавтра опьянение становится глубже. Настает день, когда мы напиваемся в стельку и падаем замертво, и поистине странным бывает наше пробуждение.
Всю дорогу до Юты Габриаль поет заунывные псалмы. Мир за окнами машины в цвете гниющей пшеницы. Они останавливаются в Моаве, скрипя тормозами, паркуются у обочины и выходят из кабины, взметая ботинками застоявшуюся пыль. Тихий Пьяница громогласно здоровается со всеми, кто сидит в зале, и протискивается широкими плечами в окошко торгового павильона, упершись локтями в усеянный крошками пластиковый прилавок.
— Быстренько жрем и подбираем баптистов.
— Баптистов?
— Ну да, они соскочили с корабля в Небраске, сели там на самолет и скоро будут здесь.
Весь зал уставился на Габриаля, Габриаль уставился в окно, ничего не видя и не замечая. Тихий Пьяница медленно стискивает челюсти.
— Парни, у вас нелады со здоровьем? — Он поднимается во весь свой гигантский рост. — У меня есть двести шестьдесят фунтов чудного лекарства.
Это пробуждает Габриаля. Он поворачивает голову и тяжелым взглядом обводит присутствующих, чувствуя, что накопившийся за две недели гнев ищет выхода.
— Спокойно, дружище. — Тихий Пьяница кладет руку на плечо Габриаля, удерживая его на месте. — Убивать будем только в случае крайней необходимости.
Что бы все это ни означало, Габриаль теперь на сто процентов уверен, что Тихий Пьяница не просто так остановился у обочины и подобрал его, вырвав из уныния. Он не знает, во что влип, но понимает, что Тихий Пьяница — отличный парень, который не станет докучать ему вопросами. Он понял это, пообщавшись накоротке с Койотом. Он поедет с ним и дальше. Только сейчас мозаика начала складываться в цельную картину. Исосселес оставил Койоту вежливое и простенькое напоминание. Вдруг исчезает Липучка, единственный настоящий раста на тысячу миль. Габриаль должен найти Исосселеса, и тогда он узнает массу всяких интересных вещей. От этих мыслей сжимаются челюсти и хрустят зубы.
Яичница, сосиски, бекон, немного масла на тосте, все в зале сосредоточенно едят, не поднимая глаз. Никто больше не глазеет на Габриаля.
— Баптисты? — спрашивает наконец Габриаль.
— Передвижной консорциум новообращения новоорлеанского общества христиан-баптистов. Такая компания христиан, которые забрали себе в голову, что битники… — Тихий Пьяница замолкает, чтобы проглотить кусок. — Знаешь, кто это такие?
— Ну, знаю, — отвечает Габриаль.
— Так вот, они думают, что битники на самом деле тайная христианская секта. Такой своего рода полоумный прозелитизм. Кто-то вообразил, что надо собрать стадо сынков и дочек, не старше пятнадцати лет, и послать их от океана до океана за восемнадцатью велосипедистами, чтобы они по пути горланили песни. Вот посмотришь, у меня весь кузов увешан громкоговорителями.
Официантка приносит еще кофе. На парковке сквозь ветровое стекло видны поблескивающие стальные струны старой гитары.
— Когда они приезжают?
— Через полчаса. Поедят, погрузятся — и вперед, семь сотен миль на запад.
Тихий Пьяница не солгал. Их двадцать, и всем ни на один день не больше пятнадцати. Дети пустились в приключение, и они очень серьезно к нему относятся. Габриаль не утруждает себя размышлениями о причинах. Он думает, что, будь у него возможность, он смог бы научить их регги, может быть, и песне об искуплении. О маленьком избавлении.
Тихий Пьяница жмет педаль газа, и они отъезжают от парковки под аккомпанемент хора, затянувшего «Иисус встретил женщину у колодца». Но дети поют тише, чем можно было ждать. Их пение больше похоже на едва слышное дуновение ветра. Над пустыней повисают и другие песни — «Не плачь, Мария», «Нежная память». Мили и мили пустынной дороги. «Старый корабль Сиона» и даже Габриаль, разжав челюсти, начинает подпевать.
Пролетают пятьдесят миль. Потом еще пятьдесят.
— Можно спросить тебя кое о чем? — спрашивает Тихий Пьяница, все еще думая о ресторане.
— Стреляй.
— Тебе всегда приходится так туго?
— Ты имеешь в виду мой цвет?
Тихий Пьяница молча кивает.
— Слово «альбинос» происходит от греческого «альфос», это греческое слово обозначало тускло-белого больного проказой; кроме того, это слово производят от греческого же слова «альфито» — что означает белая богиня. Ты не читал Мелвилла?
— Нет, только слышал о нем.
— Моби Дик?
— Это о сумасшедшем капитане, который гонялся за гигантским китом по всем морям и океанам? Кит откусил у него кусок ноги, и капитан решил отомстить?
— Да, то самое.
— Угу.
— Мелвиллу очень нравится противоречие, заключенное в белом цвете: чистота и благодать, с одной стороны, а с другой — безымянный ужас: проказа, альбиносы, белые балахоны.
— Ты считаешь, что будишь в людях такие вот эмоции?
— Книга вышла в то время, когда люди только что поняли, что Бог — это идея, которую можно убить. Может быть, в «Моби Дике» кит есть символ Бога. Ахав всю книгу пытается убить Бога. Но стоит, однако, помнить, что Моби Дик — белый кит. Он — альбинос, и когда все сказано и все сделано — он побеждает.
30
Стена Плача превосходит любое, самое живое воображение. Старый камень цвета пустынного солнца, нарезанный и спрессованный в виде кирпичей размером с циркового толстяка. Камни вросли в землю так, что площадь, на которой они стоят, напоминает кратер, место археологических раскопок, вокруг которого может расти весь остальной Иерусалим. И он растет, будьте уверены. Какая пестрая смесь: торговцы травкой, промышляющие своим товаром в толпе туристов, карманники, одетые как иудеи, мусульмане и христиане — без разницы. Отшельники всех мастей и оттенков. Вокруг творится столпотворение, какого не увидишь больше нигде в мире, — лысые и бородатые, кричащие и брызжущие белой слюной с сухих губ, волосы всклокочены и стоят торчком, как невиданные антенны, короткие еврейские бачки, пейсы, завивающиеся под подбородком, глаза, видящие только одного Бога. Величественные женщины, у которых вместо хребта — стальные стержни, в глазах твердость и прямолинейность, они несут сюда свои печали, но ни унции больше, есть и другие — женщины, настолько придавленные словом своего Бога, что они не могут двигаться иначе, чем ползком по горячему песку. Мистики, парящие в воздухе за закрытыми дверями своих домов, протыкающие булавками свою плоть, ходящие босиком по горячим углям. Маленькие дети, пишущие свои молитвы, обеты и желания — вы ни за что не смогли бы пересчитать эти желания. Каждый пишет их на одном-двух клочках бумаги, скручивает, складывает и всовывает в трещины, углубления, во всякое, еще оставшееся свободным место в стене, и это продолжается десятилетиями, столетиями, и никто не знает, откуда взялась эта традиция, где она коренится, почему она захватывает души всех людей, — мы можем во всех других проявлениях ненавидеть друг друга, но мы можем надеяться, мы можем мечтать, мы можем иметь так много общего.