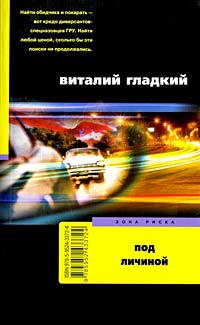Видимо, тренер не любил переводчика и относился к нему с презрением, хотя и старался этого не показывать, а тот, в свою очередь, боялся японца до дрожи в коленках и, опять-таки со слов нашего знатока восточной тарабарщины, обращался к нему по меньшей мере как к вельможе, приближенному к императорскому двору.
Все мы были в этой спецшколе на положении заключенных, без права выхода за "колючку", без права общения с внешним миром посредством переписки или телефонных переговоров. Но наш срок был конечен – кому год, а кому два, в зависимости от "специальности", – а вот преподавателям и обслуживающему персоналу скорое освобождение и не светило, в особенности сэнсэю.
Однако, если наши наставники все же могли раз в два года съездить в отпуск (наверное, под конвоем), то японец и переводчик были не выездные.
Не знаю, как убивал свободное от службы время переводчик, а тренер, набравшись едва не под завязку сакэ[33](что случалось частенько), закрывался в спортзале и вытворял такое, о чем подсмотревшие его забавы курсанты рассказывали с суеверным ужасом, хотя они и не отличались большой чувствительностью.
Сэнсэй, напялив на себя черные одежды, похожие на спортивный костюм, только с множеством карманов и подпоясанный, метался по залу как полоумный, бегая едва не по потолку.
Судя по всему, он дрался с воображаемым врагом, и после этих его сражений приходилось менять сверхпрочные макивары,[34]измочаленные так, будто по ним проехался танк, и манекены, изодранные "тигровой лапой".[35]
Он меня зацепил во время одной из первых тренировок. Глядя, как я отрабатываю тамэси-вари и, морщась, дую на ободранную ладонь, японец презрительно покривился, быстро сложил стопку из четырех кирпичей и с виду небрежно, но молниеносно располовинил ее ударом кулака.
Тут он меня и достал. Уел, проклятый якудза.
Всю свою сознательную жизнь я стремился быть всегда и везде первым – то ли в учебе, то ли в драке. И получалось, клянусь аллахом, чтоб мне душман оторвал мужскую гордость!
А тут такое фиаско. И где – на виду у доброй половины нашей группы!
Конечно же, такого надругательства над моей неприкаянной, но гордой, как некая морская птица в произведении одного пролетарского сочинителя, натурой я терпеть просто не имел права.
Так я стал самым прилежным учеником японца. Подозреваю, что я ему нравился, хотя он этого никогда не показывал.
Но вот приемы каратэ я с ним отрабатывал такие, о которых остальные курсанты слыхом не слыхивали; между прочим, я, несмотря на весьма солидную выучку по части боевых искусств, тоже солидно плавал в том, что он мне показывал.
Стиснув зубы и спрятав свое самолюбие куда подальше, я часами тыкал сомкнутыми и разомкнутыми пальцами в ящики с фасолью, песком, мелким гравием, галькой, макал кулаки поочередно в горячую и холодную воду, молотил до изнеможения пружинящую макивару, раскалывал доски, крушил черепицу и кирпичи…
Да мало ли что может вытворять человек, зараженный идеей.
Киллер
На больничной койке я провалялся чуть больше недели. Доктор по прозвищу Варварыч воистину был кудесником – я встал на ноги на удивление полным сил, энергии и желания больше в санчасть не попадать.
Конечно, сломанные ребра еще болели и дыхание оставляло желать лучшего, но теперь у меня была цель, и я подчинил ей всего себя без остатка.
Так как я был еще "на больничном", меня в список очередников на отоварку – так "куклы" называли спарринг – пока не ставили.
Поэтому, пользуясь определенной свободой, я днями тренировался, вспоминая подзабытое и накапливая необходимый для жестокого противостояния потенциал: медитировал, бегал по нашему крохотному стадиону, огороженному бетонной трехметровой стеной, поднимал штангу, лазал по канату, выполнял свои обычные комплексы тао[36]не менее чем по сто раз каждый, упражнялся с макиварой, тысячи раз отжимался на двух-трех-четырех-пяти пальцах и кулаках, разбивал камни.
Последнее упражнение давалось мне с трудом – набивка рук должна вестись почти ежедневно, а я и на свободе занимался этими упражнениями эпизодически. Но здесь, чтобы не стать калекой или подопытным кроликом, я просто обязан был наверстать упущенное, потому что тренер курсантов, судя по всему, исповедовал стиль силового каратэ.
"Куклы" за моим юродствованием или, если в переводе с фени,[37]– чудачеством наблюдали не без иронии. Ведь их так называемые тренировки заключались в поднятии тяжестей, прыжках со скакалкой и работе с боксерским мешком и грушей.
Правда, силенок им было не занимать. Пожалуй, только я один по физическим кондициям не дотягивал до общепринятого здесь стандарта: руки – крюки, морда – ящиком; сейчас я весил не более восьмидесяти килограммов, тогда как самый "маленький" из старожилов спецзоны, Второй, тянул за девяносто.
Особенно они потешались, когда я занимался медитацией. "Наш фраерок-ешкарик[38]опять сидя дрыхнет", – зубоскалили "куклы", проходя мимо небольшого закутка на тюремном дворе, где я устроил себе импровизированный тренировочный центр кунфу.
Но смех смехом, а относились они ко мне вполне нормально, то есть – безразлично, как и друг к другу.
Не сложились у меня отношения только с паханом, Десятым, или Че[39]– так его прозвали остальные смертники. Оказалось, как я узнал позже, у "кукол", кроме номеров, были и клички, выдуманные ими уже в спецзоне.
Например, Второго звали Галах,[40]а мне почему-то прилепили кличку Ерш,[41]хотя я на нее и не тянул. Впрочем, возможно кто-то из них был неплохой физиономист, подметивший в моем характере черты задиристого авторитета, над чем я никогда не задумывался.
Че не только смотрел на меня косо, но и рычал иногда, большей частью не по делу. Я в споры с ним не вступал, помалкивал, так как понимал, что он не может мне простить моего невольного присутствия при его ссоре с Галахом и в особенности когда пахана, как дешевого фраера, выставил без особых церемоний за дверь тюремного лазарета охранник.