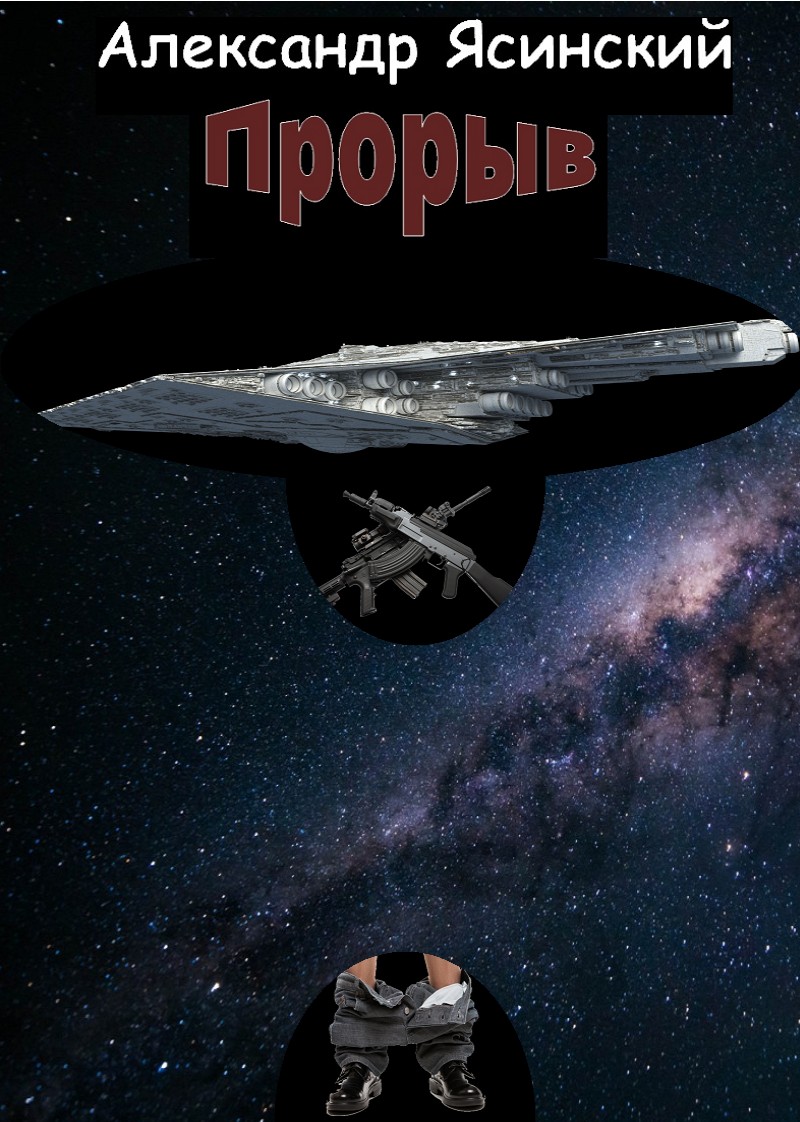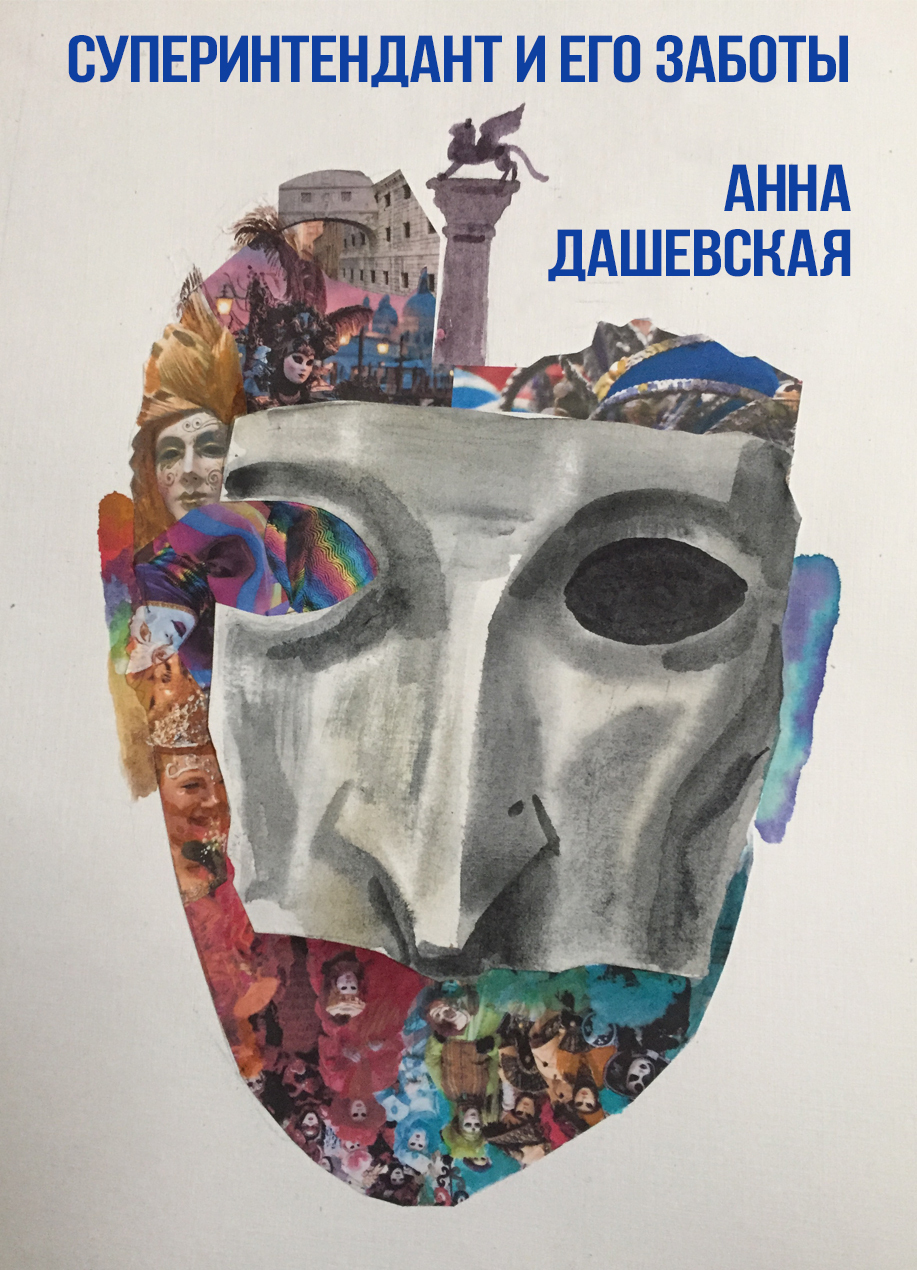секундой эта симпатия нарастает, словно снежный ком с горы, превращается чуть ли не в привязанность, в какое-то смутное чувство, распирающее грудь. Он встал, тяжело вздохнул, содрал с кресла покрывало и накрыл Наиля тяжелой мягкой тканью. Потом вернулся, снова развалился, уперся взглядом в темноту за окном. Если бы в комнате горел свет, то все, кто там присутствовал, увидели бы, что чеченец улыбается.
* * *
Проснувшись, Александр первым делом подошел к окну во двор. Грузовик на месте, топится народ. Саша перевел глаза на часы — семь утра.
— Недурственно, — пробормотал он и принялся натягивать маскхалат, который припас еще с вечера.
— Иди сюда, — прошептала Наташа. Он с удовольствием подошел, запустил обе руки под одеяло, положил левую ей на грудь, правую протиснул между ног.
— Ты побереги себя, — прошептала Наташа. Александр нахмурился — он не выносил нравоучений. Быть может потому, что в большинстве случаев жена оказывалась права. Однако она никогда не попрекала его уже сделанным. Что было — то прошло. Даже после самых отчаянных гулянок Наташа не дулась, не замыкалась. И стыдно становилось не «после», а «до»… Постепенно из жизни Александра ушли попойки до «поросячьего визга». Стопочку, другую, залакировать пивом — но всегда на ногах; состояние ясное и чистое, словно слеза младенца; полет нормальный…
— Я буду осторожен, — пообещал он.
— Знаешь чего, — не унималась Наташа. — Ты только не смейся.
— Не буду.
Она выждала несколько секунд, по всей видимости — собиралась с духом.
— Саш, пообещай мне… Ладно? Только не забудь… Стреляй первым. Стреляй первым, Саша.
Александр нахмурился, поднялся, глядя сверху вниз на сжавшуюся под одеялом женщину.
— Хорошо, лисенок. Я буду первым, ты же знаешь, не бойся, ладно?
— Не боюсь я, — она смотрела очень серьезно, глаза сверкали бусинками.
— Молодец, — тоже очень серьезно сказал Саша и принялся одеваться дальше. Нож в ножнах. Подсумок с магазинами. Шлем. Наколенники и налокотники. Меч. Вскинул на плечо прислоненный к подоконнику автомат.
— Я люблю тебя, — сказал он в дверях.
— Я люблю тебя, — эхом отозвалась Наташа.
— Шпак, выходи, — заорал Саша и отвесил пинка по двери. Толстое лицо — наполовину бритое, наполовину в пене — высунулось на площадку.
— Сейчас, — пообещал Серега.
Александр спустился на первый этаж, прошел мимо столпившихся перед дверью чеченцев.
— Наиль здесь?
— Здесь…
К Сергею Саша не стал стучаться, вышел из подъезда. Шум утих. Люди смотрели на вышедшего человека, а Саша глубоко вдохнул свежий холодный воздух. Вот он, воздух революции, насильственного смещения власти. Пахнет дымом и железом, кровью на траве, потом и страхом. Вот он, ваш сверхгерой. Пришел, бэтмен, Супермен и Человек-паук в одном флаконе русской закваски. Что он делал сегодня ночью? Во имя добра искоренял зло? Еще предстоит услышать вести о том, что вурдалак с красными глазами валил людей направо и налево, рвал на части. Это Саша уже видел. И гиганта с автоматом в руке, веером пули — каждому по одной, — тоже видел. А может быть, воры и мародеры падали только оттого, что прикоснулись к чужой вещи…
— Работаем в две смены, — начал Саша. — Одни на поле, другие — здесь. Надо придумать, куда урожай сгружать будем…
Толпа зашумела на его слова. Заголосила, заволновалась, они рано встали, но вовсе не для того, чтобы работать. Они желали ответов, они тоже видели то, к чему привык Саша. Они хотели действовать.
— Трупы на улицах валяются… В Желтом доме всех положили… Магазины все забиты… На улицах лежат… И менты тоже… И десантники, их то за что…
— А вы чего хотите? — громко спросил Саша.
— Чтобы этого не повторилось. Бояться не хочу. Спать хорошо хочу, — завопил старушечий голос.
— Так спи, кто тебе не дает! — выкрикнул Александр.
— Мы к нему пришли, понимаешь…
— А по какому праву вы решили, что я буду командовать? — еще повысил голос Саша. Он выждал паузу, чтобы шум затих и потом начал — медленно и угрюмо:
— Я не желаю командовать. И хочу спросить — какого черта вы хотите всегда жить чужим умом?
— Мы жить хотим, — вырвался бас из задних рядов. Народ прибывал, волновался.
— Что дальше будет? — вопила все та же старушенция.
— Что будет? — рявкнул Саша и поднял автомат. И тотчас же — сзади заклацали затворы. Наиль припал на колено, ноздри татарина раздувались, усмешка кривила лицо.
— Я скажу вам, что будет, — говорил Александр, рассматривая каждого в прицел, медленно проводя дулом по толпе. — Сейчас я поеду копать картошку. После обеда пойду копать могилы, раз уж столько мертвяков валяется. А завтра похороню друга… Теперь скажу, что будет с вами… Сейчас вы пойдете домой, а после обеда вам принесут повестки. Завтра вы пойдете в военкомат, обреете головы, вам вручат багры и топоры, погонят на улицу, ловить вурдалака. Да только он не вурдалак. Он вас как кутят в вашей же крови утопит. И все. И не будет никаких глупых вопросов. Хотите такого — валяйте, но мне не по пути. У меня урожай еще не убран, — пробурчал он под конец, закинул автомат за спину и пошел на расступающуюся перед ним толпу.
— Не кипятись ты, — хлопнула по плечу тяжелая ладонь. Саша обернулся, чтобы увидеть спокойное лицо Артемича и знакомые, непривычно хмурые рожи «стачечников». — Правильной дорогой идешь, товарищ.
— Ну а как же, — проворчал Александр, влезая в кабину. — Я же «дорожник».
Потом повернулся к Наилю, который сидел за рулем:
— Слушай, не в службу… с Тимуром пройдите по городу. Вечерком расскажи — что видел, что думаешь. А Равиля при мне оставь. Согласен?
— Спрашиваешь… — ухмыльнулся татарин.
— И это… там… не сильно, — предупредил Саша, пересаживаясь на место водителя.
— Ладно, — отозвался Наиль. Потом повернулся и крикнул:
— Артемич, что стоишь? Залезай, подешевело!
* * *
Вечером в почтовом ящике обнаружились повестки. Сразу четыре. Одна — Саше, другая — Шпакову, третья — Наилю и последняя, четвертая — Андрею Павину. Эту Александр сразу порвал, поднял глаза на небо, которое почему-то стало красным. Солнце, наверно, заходило…
— Ах вы суки…
Его корежило, мышцы напряглись так, что на лбу выступил пот, руки закостенели, колени подогнулись. Трясущимися пальцами он сунул бумажки в карман. Нашли, думал он, сразу нашли… Как же я вас ненавижу… Сколько времени и нервов, сколько бумажек, сколько униженных взглядов, сколько денег, сколько приходилось ждать в потной и вонючей толпе, стыдливо просить, умолять, объяснять, подписывать, еще и еще, унижение, и все — для него, здорового мужика, рабочего и крестьянина… Прописка — отказать, военный билет — показать, комиссии, аж девять штук, каждый месяц — а что вы