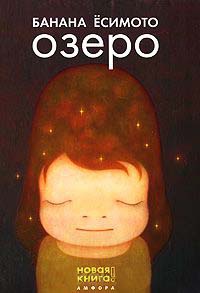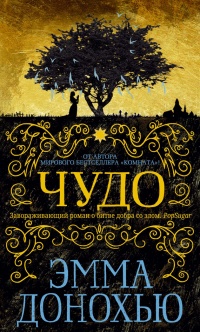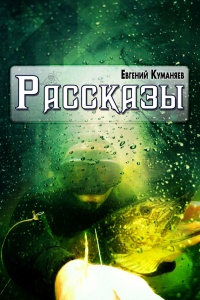Дальний плач тальянки, голос одинокий, — И такой родимый, и такой далёкий… «Под кроватью прятался с гармошкой…»
…Гармонь, тальянка, воспетая, оплаканная русской душой, пока не смокла, не вывелись на Руси гармонисты вроде Ухова, мужика сибирского. Потешил, подивил земеля Россию-матушку лихой игрой, хотя музыке сроду не учился… самородок, слухач, самоучка… Всю трудовую жизнь трезво и мастеровито отпахал монтажником и сварщиком. Года три варил за границей; и хотя курица – не птица, Монголия – не заграница, но и в пустыню Гоби балбеса не пошлют. И в Монголии мужик гармонью спасался, чтоб не остыла душа посреди вьюжной степи, не спеклась на палящем солнце, да и легче под гармошку укрощать тоску по Родине.
Я гощу в покойной горнице, напоминающей родную деревенскую, и закатное солнце, сочась сквозь листву, задумчиво плавает по вышивкам, где царевич с девой скачет на сером волке, по старым карточкам, где, подкрашенные, красуются гармонист с женой. Аполинарий Серафимович назойливо потчует рябиновкой и хвастливо живописует свою судьбу сварщика и гармониста, а я привычно чиркаю в записную книжку.
– …А родился я, Григорич, на Алтае… Слыхал, Солоновка?.. Кержаки там… Но я на белый свет народился – месяц стукнул, семья наша укочевала в Мишелёвку. Слыхал, поди?.. Под Иркутском… А потом отец завербовался в Якутию, на Лену-реку. Отец был простой работяга – печник, каменщик. Ещё при царе окончил четыре класса церковно-приходской, и его как грамотного, серьёзного мужика выбрали десятником, а потом – мастером на кирпичный завод. Все его в посёлке уважали – работяга был добрый, справедливый и такой здоровый, за пятерых чертомелил. Силища была… Помню, бык разбушевался, народ гонял; одну девку на рога поймал и в речку кинул. И веришь, Григорич, батя мой дал быку в лоб, тот на колени упал и больше не бушевал. О как… А сколь, Григорич, у бати наград было – море; одних медалей – уйма, пиджака не хватало. У меня тоже грамот полкомода, можно стены заклеить вместо обоев. Да…
И вот началась война, батя трижды сушил сухари, на фронт собирался, и трижды его как незаменимого мастера оставляли на брони – мастер незаменимый, дескать, мы без тебя, Серафим, как без рук. А завод же работал для фронта… Вот так отец всю войну на заводе и пахал.
Ну, кончилась клятая война, стали мужики с войны возвращаться. Кто целый, а кто раненый, контуженый, кривой, слепой… Приходят, в каждом доме светлый праздничек: поют и плачут… Гуля-ает народ. Но гуляли не по-нынешни… Ныне же как?! Напьются, аж из ушей хлещет, и пошли куролесить… А раньше за столами сидели чинно, выпивали, конечно, но не до упаду же. А уж напоются, напляшутся от души… И приносили мужики с войны трофейные аккордеоны, немецкие баяны, а иные и гармошки… русские. И вот, значит, гуляют на встречинах, играют кто на чем горазд, а потом, ясно дело, подопьют и спать. А мне тогда уже девять лет было… И вот как мужики стихнут, возьму я гармошку и пробую играть. Пошто-то именно гармошку полюбил. Вот не баян же, не аккордеон. И так мне понравилось играть, что, бывало, гармошку не могли отобрать. Веришь, Григорич… Плачу, дескать, не отдам, мол. Под кроватью прятался с гармошкой, веришь. Клюкой выгребали. Вот до чего меня гармошка завлекла!
Ну, стал брать у мужиков гармошку, песни разучивать. Мама моя – певня, бывало, посуду моет и поёт, а я следом играю. Вроде подыгрываю. В школе всё больше пионерские песни разучивали, а я велел маме петь взаправдашние – русские народные. Она поёт, я за ней мелодию на слух подбираю. Я же слухач…
Потом отца послали в Красноярск, повышался на прораба. А мать без него пошла проверять облигации и посулила: «Ну, еслив ты, сыночек, счастливый и я выиграю двести рублей – купим тебе гармонь. Будешь играть…» И выиграла… Видно, судьба моя такая… смалу с гармошкой жить. А потом это… У меня были брюки коричневые, суконные – отцовский подарок. Дак мы купили у цыган гармошку и отдали за гармошку двести рублей и брюки в придачу. Гармошка старая была, деревянная вообще, не играла, а ворчала. Но что делать, на цыганской стал играть. А скоро и отец приехал с повышения; ну, я как врезал, отец аж глаза вытаращил: уезжал – ещё ничем ничо, а тут махом, моментально стал играть. Он цыганскую гармошку убирает и покупает мне другую, получше. А тот цыган, который нам гармошку продал, тоже был гармонист, и вот послушал-послушал меня и говорит маме: «Тётя Валя, у вас сын капитально будет играть…»