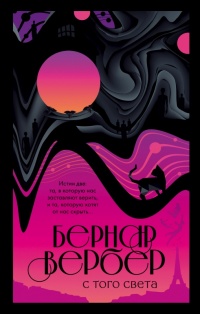– Воробей, э-ге-гей!Поборол всех смертей!Стал еще красивей!Э-ге-гей, э-ге-гей!
– Я тебя твоим дырявым дуршлагом так отлуплю, что…
– Юля, ну ты что, дорогая? – вмешалась моя мама, и тетя Юля вздрогнула, заметив взрослого свидетеля.
– Да у меня уже руки от него трястись стали! – протянула она жалобно. – Скажи, пожалуйста, неужели своих отпрысков воспитать нельзя? Ой, у меня овсянка убегает, маску сделать хотела. С клубникой. Знаешь, какой результат? Во!
Она показала маме оттопыренный большой палец и с грохотом захлопнула окно.
– Клубника? Зимой? – удивленно обратился я к маме, но она тоже только пожала плечами.
– Э-ге-гей! – все не мог угомониться Василек.
И где-то высоко, далеко и высоко, я услышал эхо, вторящее ему. Я был готов поклясться, что оно летало по выгоревшей квартире. Смех поднялся из живота по моему горлу, пробился через губы и, кувыркаясь, вылетел на мороз. Я вскинул руки и засмеялся от счастья. Двор праздновал мое возвращение, возвращение предводителя Вольных птиц в свое царство.
Дома я первым делом выставил на свой подоконник с внешней стороны две мисочки. Одну – с водой, другую – с крошками хлеба. Я знал, что птицам приходится нелегко в холодную пору года, и считал, что помочь им перезимовать должно быть долгом каждого добросовестного гражданина северных широт. Из благодарности за то, что воробьи не покидали нас, хотя запросто могли бы улететь на юг и радоваться жизни. Где-то глубоко во мне таилась и надежда на то, что Джек вернется ко мне именно тогда, когда ему станет тяжело, и тогда я согрею его и при глобусном свете буду читать ему вслух сказки или выдержки из энциклопедии про разные породы птиц. Как ему захочется.
Второпях накидав отчетное письмо папе, в котором я поинтересовался и температурой воды, и выразил свое беспокойство о нем, я наконец собрался с духом и спустился к Сигимонде.
Занавеска на ее двери была недвижима, словно она замерла, чтобы не выдавать наличие хозяйки в доме. Я глубоко вдохнул и постучал в громко задребезжавшее старинное стекло. Занавеска напряглась, а тишина, царившая в квартире, застыла и потяжелела.
Я ждал. Мне показалось, что я слышу тиканье всех часов в подъезде. Спустя какое-то время я постучал еще раз, хотя было ясно, что если Сигимонда еще не дошла по своей малюсенькой квартирке до двери, то ее либо не было, либо она не хотела открывать. «Либо ей плохо или она даже умерла», – подумалось мне с некоторой задержкой, и я поежился. Нет, такого не могло быть. Столь старые люди, как Сигимонда, в моем представлении превращались в бессмертных персонажей, уже не совсем принадлежащих к тленному миру.
Я снова поднял кулак, чтобы напоследок попытать счастье, как занавеска слегка отдернулась, и сухая белая рука с фиолетовыми сосудами и разноцветными кольцами прижала пожелтевший листок бумаги к стеклу. От испуга я отпрянул, но быстро спохватился и всмотрелся в уже знакомый почерк.
«Кто ищет (и верит в сказки), тот найдет», – гласила записка. Я жадно перечитал немногочисленные слова несколько раз.
– Кто ищет и верит в сказки, тот найдет, – проговорил я вслух, еле шевеля губами, и протянул пальцы к листку, чтобы прикоснуться к нему хотя бы через стекло.
Но тут рука отдернула его так же быстро, как появилась, и занавеска облегченно закрыла снова то, что так трепетно берегла от посторонних взглядов. А я так и застыл на месте с поднятой рукой. В голове красно-золотым шлейфом помчалась карусель, и улыбка растеклась по моему лицу.
– Я верю, верю в сказки, – прошептал я. – Я верю в сказки!
– Тогда тебе стоит посмотреть вот на это, – послышалось за моей спиной. Я вздрогнул и обернулся.
Перед чугунными дверьми лифта стоял Василек и лукаво улыбался. Раньше я не замечал за ним таланта бесшумного передвижения в пространстве, особенно с дуршлагом, который имел досадное свойство то и дело с грохотом сваливаться с головы моего маленького друга. Моя улыбка стала еще шире.
– Ты вернулся, – сказал Василек.
– Еще бы, – шагнул я ему навстречу. – Куда же я мог деться-то? И на что это мне надо посмотреть?
Василек прижал указательный палец к губам и загадочно вылупил глаза.