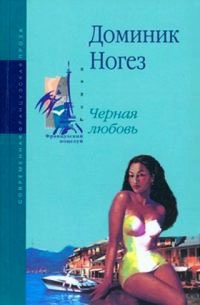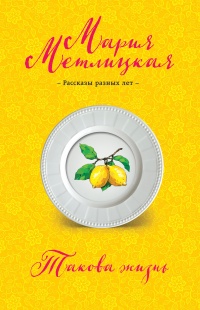Проснувшись, она думает: «Ей-богу, я предпочитаю жить с Тицио, чем с моими любовниками. Он ничего от меня не требует, позволяет спать, не просит мыть посуду».
— Вот с вами мне так спокойно живется! — говорит она, когда он входит.
Он глядит на нее с плохо объяснимым волнением. Или может, это жалость? Наверное, она уже не так красива, как прежде, ведь ей больше тридцати пяти. Но нет, она знает, что нравится ему, по-прежнему нравится.
— Все-таки дружба лучше любви, — убежденно говорит она.
— Ну, конечно. Это единственное прочное чувство, как видите! Судите сами: у меня были женщины. Много. Даже слишком много. И что же осталось? Ровно ничего! Встретишь случайно какую-нибудь из них — здрасьте, до свиданья, и весь разговор.
Она замечает, что потеряла кольцо; пальцы у нее стали совсем тоненькие. Но это ее не огорчает, или, вернее, она слишком ленива, чтобы искать его. «Найдется как-нибудь потом!» Но, подняв руки к ушам, чтобы проверить, на месте ли серьги, она вдруг ощущает тошнотворный запах.
— Что за тухлятину я ими трогала? — шепчет она.
Ей вспоминается, как в школе они с подружками изо всех сил терли ладони, а потом принюхивались к ним и говорили: «Смертью пахнет!»
И смеется.
— Чему вы смеетесь? — удивляется Тицио.
— Да так, вспомнились детские игры. Какими же мы были дурочками! А ведь хорошо быть глупым, правда?
— Не думаю, — говорит он.
Он ставит перед нею поднос с приготовленной едой. Потом берет молоток и начинает приколачивать доску над дверью, там, где осталась дыра.
— Это чтобы вы не мерзли.
— Ах, Тицио, как вы добры! С вами я отдыхаю от суровости моих родных братьев.
— А они суровы?
— Еще как! А мои золовки меня ненавидят.
— В семьях это уж всегда так.
Оставшись в одиночестве, она опять заснула на низком диване, укутанная в три одеяла и накрытая поверх них рысьим манто.
Мыться она не стала. «Не хочу больше мыться!» До чего же приятно попасть в ванную, где еще ничего не стоит, только на цементной стене крупными синими буквами выписано:
BAGNO
LAVABO[16]
А он вернулся в свою просторную темноватую комнату, где поблескивают реторты. Затворил дверцы шкафа-кухоньки и читает при свете настольной лампы. Долго. Потом тоже засыпает, прямо в одежде.
Утром она встает очень рано. Поскольку чувствует себя удивительно счастливой. И не хочет терять ни минуты этого нового дня. Она спускается вниз, на первый этаж, идет вдоль внутреннего канала, куда Тицио сможет отвести воду из речки, с живой форелью. «А еще я, наверное, буду разводить здесь креветок», — сказал он вчера.
Пройдя по дубовым плашкам, звонко хлопающим под ногами, она отворяет застекленную дверь и выходит.
Пальмы в саду обмахивают ее бахромчатыми ветвями, самшит дышит горьким своим ароматом. Она замечает на камелии готовый распуститься бутон. Поток, что всю ночь издали убаюкивал ее, теперь бежит рядом. Но она покидает его, решив взобраться по каменистой уступчатой тропе на холм. Там ей встречается пестрый петух; напыжившись и преградив ей путь, он воинственно взирает на нее круглым, черным глазом. Она грозит ему, и он легонько клюет ее в палец.
Она карабкается по склону, усыпанному палой листвой, но очень скоро устает. «Мне теперь все время хочется спать». Из пальца сочится кровь бледно-розового цвета, и она заматывает его носовым платком. Перед нею, на раскрошенной гранитной ступеньке, блестит осколочек кварца. Она подбирает его, и ей представляются те драгоценные камни, какими женщины на Востоке инкрустируют себе лица. Забавы ради она вдавливает камень в ладонь. Твердый остроконечный кристалл легко входит в нее. И совершенно не причиняет боли. Она сжимает руку.
Обернувшись, она видит, что из кустов за нею следит кот. Она хочет подойти к нему и погладить, но он, мяукнув, исчезает.
«Только бы Тицио не заметил этот кристалл у меня в ладони — он начнет расспрашивать…» Расспрашивать — о чем? Она боится — сама не зная почему — любых вопросов. Но когда она возвращается, он не задает ни одного, только беспокойно нюхает воздух, а потом начинает смеяться.
— Никак не пойму, что это со мной, — говорит он. — Иногда в голову приходят такие странные мысли.
Он показывает ей свои книги, свои картины, приносит пластинки и старинную музыкальную шкатулку, где танцует восковая балерина. Потом готовит ужин.
— Вы меня балуете! — говорит она. — До чего же приятно, когда за тобой так ухаживают! Только вот сама я бездельничаю.
— А вы здесь не для того, чтобы работать.
— Но для вас это утомительно, Тицио!
— О, я люблю принимать гостей. Это не работа. Вот тяжелую работу мне делать нельзя… из-за моей болезни.
— Сердце?
— Сердце. Но это не страшно.
Следующей ночью ей снится, будто она несет своего ребенка на спине, в шали, связанной концами на груди. Узлы стягивают тело, душат ее. Но она потеряла накидку и шапочку ребенка и теперь разыскивает их на вокзале, в толчее, среди эмигрантов.
Она просыпается в крайнем волнении. А ведь она никогда не думала об этом ребенке, который родился у нее мертвым. Она вертится на диване, пытаясь сбросить придавившие ее одеяла, но с каждым движением еще больше запутывается в них. В темноте белеют оконные занавески. Она зажигает лампу в изголовье и с удивлением обнаруживает на подоконнике открытого окна большую черную птицу. Птица нерешительно выжидает, потом, влетев в комнату, садится на деревянный куб, смотрит на нее оттуда и тянет вперед мощный клюв. Может, это крупный дрозд? И вдруг она понимает: это ворон.
Еще три ворона садятся на подоконник. Она встает, бросается к окну, запирает его. Но птицы барабанят клювами в стекло, угрожая разбить его, а первый ворон взлетает Розе на голову. Она пронзительно кричит.
— Что такое?
Ее друг, ее брат стоит на пороге в халате, совсем заспанный.
— Да нет, ничего, — все еще дрожа, отвечает она.
И правда, пернатые разбойники в окне исчезли. Зато пол в комнате загажен, и по свежему птичьему помету нагло разгуливает ворон.
— Я его знаю, это Фриц. А ну-ка, Фриц, убирайся отсюда, нечего беспокоить дам!
Тицио берет рисовую метелку и выгоняет ворона из комнаты.
— У него есть дурная привычка являться сюда за кормом.
— Похоже, на этот раз он собирался съесть меня, — объясняет Роза.
Внезапно она очутилась совсем одна на маленьком деревенском вокзале. Подошел и остановился поезд. Дверь открылась, и контролер едва успел подхватить ее.