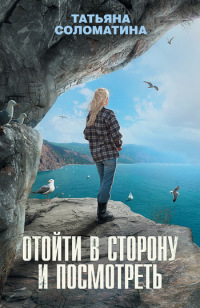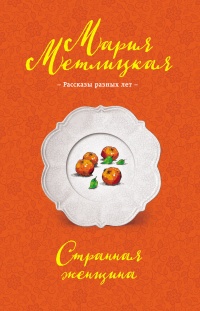— Родионов, о чем ты говоришь с девушкой! — мягко толкнула его ладошкой в грудь Ольга. — Ты должен обольщать меня, придумывать комплименты, похвалить мои уши, нос, сказать про породу… Ты же мастер в этих делах, сам хвастался… Или пригласить в кафе… Или, на худой конец, вот за тот столик…
Они как раз проходили мимо столиков, расставленных под зонтиками на тротуаре. Небольшая компания молодых парней сидела за одним из столов, оживленно и громко о чем-то споря.
— Прости, — опомнился Родионов. — Правда, пойдем посидим. Воды какой-нибудь попьем…
Должно хватить, подумал он, уж на воду-то…
Спугнув стайку воробьев, они сели в тени под тентом на пластмассовые стулья с отломанными уголками. Но прежде, чем сесть Ольга внимательно и быстро оглядела сидения. Павел заметил это и почему-то почувствовал себя виноватым… Стол был тоже из грязно-белой пластмассы, осы ползали по лужицам чего-то красного и липкого. С минуту молчали. Солнце било Павлу в лицо. Родионов глядел на ос. Четыре из них присосались с краю лужицы, а три насмерть влипли в середину и вяло шевелились. Всего, стало быть, семь, подумал Родионов и поднял глаза.
Замолкла вдруг компания за соседним столиком.
Она сидела за паскудным столом в чудесном вечернем платье, у нее были светлые золотистые волосы и такие дивные густые зрачки с золотыми крапинками… И взгляд у нее лучистый… И такие тонкие кисти рук… Хрупкость и зрелая сила. Он любил это в ней. Вернее, сейчас понял, что любит. От нее должны народиться славные веселые дети… Все, Родионов, хватит. Вставай и уходи, приказал он сам себе. Вот сейчас сказать ей что-нибудь на прощание… Что-нибудь простое и значительное, а потом подняться и уйти с достоинством. Не споткнуться бы только как-нибудь, упаси Бог. Вот сейчас…
В груди стало тесно.
— Ты красивая, — сказал он. — Как роза…
Получилось сипло и немного фальцетом.
Услышав как прозвучал его голос, он вспомнил, что у него еще и оторван рукав…
— Родионов, попей воды, — смеясь глазами, сказала Ольга. — И мне возьми. Заодно уж…
Он подхватился и бросился к окошечку киоска. Позади загрохотал опрокинутый стул. Родионов сжал зубы и с ненавистью сказал смуглой носатой брюнетке, выглянувшей из окошечка:
— Сок. Два.
Сок оказался дорогим.
Шахтеры голодают, подумал Павел, а эти суки здесь…
Рассчитываясь, он перепутал пятерку и сунул вместо нее пятьдесят. Шепотом потребовал обратно, но чертова брюнетка раскрыла пасть, приготовившись заорать, и он малодушно зашипел: «Ладно, ладно, я ошибся, извините…»
Пили молча.
Он чувствовал себя совершенно никчемным кавалером… Вон тот бы ей больше подошел, — думал он про высокого цыганистого малого, который сидел по-хозяйски развалившись и небрежно поигрывая золотыми ключиками на золотой цепочке. Такая же цепочка болталась у него на шее. Он, не стесняясь, засматривался на Ольгу.
Потом Родионов проводил ее до ближайшего метро.
Что ж, думал он, теперь все равно. Жалко, что даже и прощание получается бездарным и плоским. Прощание навеки должно быть исполнено красоты и драматизма, меня даже на это не хватило. Бездарный, гнусный пошляк…
— Славный, — сказала Ольга, потянулась к нему и легко поцеловала в губы.
Он увидел близкие, ласковые, милые глаза, и голова у него пошла кругом. Он видел ее как в центре картины, остальное сияло празднично и размыто. По краям.
Он стоял в полнейшем оцепенении, а она оглянулась на него из толпы и махнув рукою, растворилась в ней.
Родионов медленно побрел домой.
Через час он заметил, что долгий этот и трудный день клонится к закату. Длинные косые тени пересекали влажную улицу. Только что проехала поливочная машина, обдав водяной пылью замечтавшегося Родионова. Он даже и не разозлился на водителя этой машины, шел и чувствовал на лице своем тихую растерянную улыбку. Водитель погрозил Пашке кулаком, высунув угрюмую морду из кабины.
Родионов шел и думал о том, что его, Павла Родионова, час назад, на виду у всего света, поцеловала самая лучшая женщина, единственная. Теперь-то уже, конечно — единственная. Навсегда, навеки.
Пусть поцелуй был скорый, мимолетный, скользящий, но все-таки… Все-таки, не в щеку, а в губы, и теперь они сами собою улыбались. Он касался ладонью рта, закрывал его, и тогда губы расползались еще шире и счастливей…
Вероятно, вид его был странен.
Павел приметил, что на него оглядываются.
Он вошел в небольшой, укромный дворик, присел на пустую скамейку.
Тотчас пробежали три школьницы, спросили у него зажигалку. Прикуривая, одна из них поглядела прямо ему в глаза…
Подошли два солдата, стрельнули на бутылку пива и ушли, не поблагодарив…
Через минуту на скамейку мешком упал пьяный, довольно приличный гражданин при галстуке и в шляпе, но с расстегнутым портфелем и с расстегнутой же ширинкой, из которой торчал рог белой рубахи. Он тотчас заснул, свесив на бок голову. Очки с толстыми линзами косо сбились на кончик носа.
С другого боку неожиданно обнаружился тихий лысоватый тип с неподвижными липкими глазами и стал потихоньку, незаметно, пододвигаться поближе к Пашке…
Родионов вскочил и побежал прочь от этого гиблого места, где за несколько минут незнакомая посторонняя сволочь сумела украсть у него половину чистой радости.
Нужно было побыть одному, убежать ото всех, запереться, отгородиться от мира, чтобы в тишине, не спеша все обдумать, порыться в драгоценных впечатлениях сегодняшнего вечера…
Так вероятно, какой-нибудь работяга, нашедший в стене порушенного дома старинный горшок и расслышав внутри горшка тяжелый звяк, прячет этот клад в мятое ведро и прикрыв сверху клоком стекловаты, рыщет по стройке, ища места укромного и глухого, где можно было бы в покое и безопасности внимательно исследовать, что это за звяк… Родионов усмехнулся, и завернув в свой тихий переулок, пошел медленнее. Переулок был безлюден и мысли его немного успокоились. А ведь ничто не предвещало такой великолепной концовки, подумал он снова, наоборот, начиналось-то как все неудачно и напряженно…
Вот такая концовка, думал Павел, бредя к себе домой. Конец делу венец.
Он шел по переулку, а когда завернул в свой дворик, понял что в доме неладно.
У крыльца стоял милицейский «воронок». И почему-то было понятно с первого взгляда, что он стоит там давно.
Павел встревожился. Неужели опять Юрка набуянил… Или эти новоселы затеяли скандал… Или жильцы опять подрались с пожарными… Или, не дай Бог, Касым запил! Родионову уже приходилось видеть пьяного Касыма. Раз в год, под Дмитриеву субботу Касым обязательно напивался и делался страшен. Это был другой человек, не узнающий никого. Он плакал, скрежетал зубами, выл, обхватив в отчаянии голову, а в конце концов выскакивал на улицу с топором, крушил мусорные баки, скамейку, рубил железные рельсы. Полковник выходил на крыльцо, «взять на контроль» события, жильцы теснились в прихожей за его спиной, готовые в любую минуту вмешаться… Но нельзя было в такие минуты Касыма успокаивать и урезонивать, и все жильцы это знали, иначе он еще больше свирепел и выходил из себя. Напивался он очень быстро, с одного стакана, и весь кураж его длился тоже очень недолго, какой-нибудь час всего, да и разрушения, им производимые, были вовсе незначительны, но этот день почему-то долго помнился и обсуждался. «Как-то на будущий год будет? — загадывала Вера Егоровна, — сейчас-то, слава Богу, все обошлось, топорище только сломал…»