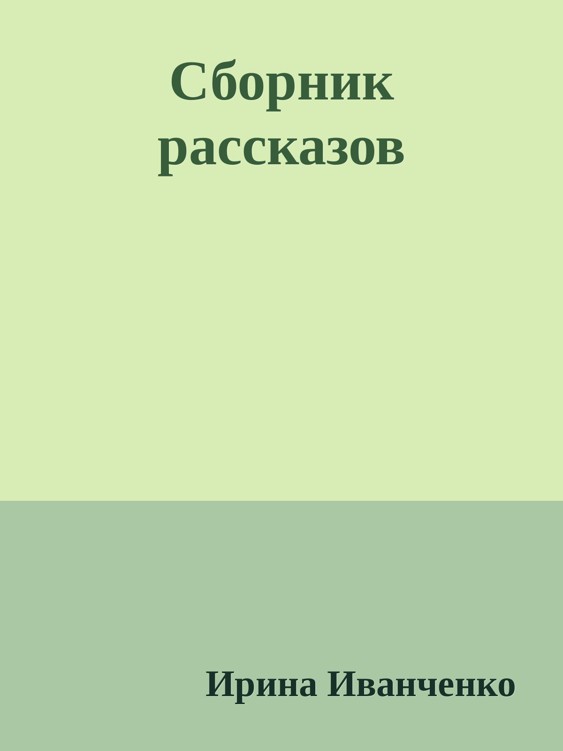по таежным углам. Приходили и крестьяне, их было особенно много, а из какого-то дальнего острога прибыли даже пятеро отощавших казаков.
У амвона сбоку за небольшим столом сидел и Данила, который как большинство староверов умел писать. Пером он старательно выцарапывал на купленной в остроге бумаге имена и прозвища желающих вступить в «городскую охрану». Крепких молодых мужчин хватало и среди староверов, и среди крестьян. К концу октября армия Завадского насчитывала уже почти триста человек, при общей численности городка около трех с половиной тысяч.
Завадский определил городские границы с расчетом на расширение. Со всех сторон «Храм Солнца» окружала тайга. При нем небольшая речушка и три ручья. Вырыли запасные колодцы. По границам начали рубить просеку шириной в полверсты и ставить двойной частокол с дозорными башнями.
Оружия на всю армию пока не хватало. Около сотни вооружили ружьями и пищалями, пороху и патронов было мало, потому Антон учил их только как заряжать и целиться. Холодного тоже хватало не всем. Новый источник продаж – мясо, рыба, сало, масло и кожи, их возил в острог уже не Завадский, а его подручные. Он понимал – требовалось расширение торговых связей и торопился завершить дела в городе.
Последний обоз, возглавляемый Еремой, в назначенный срок не вернулся. Завадский выждал пару дней и с новым грузом отправился сам – помимо прочего назревал еще один важный повод – пора было серьезно поговорить с Мартемьяном.
Накануне выпал снег. Сидя в санях, Завадский кутался в шубу, и глядел на застывшую гладь Чулыма. Думалось о прошлой жизни, о тех, кто еще не родился, о тех, кого не сбил еще разогнавшийся на электросамокате безработный любитель пива из Елабуги и ощущал, как растет в нем тоскливое тревожное чувство, которое порой возникает в России беспричинно, особенно зимой.
Причулымский острог привычно чернел грозной крепостью, очерченный выбеленным миром. Чудилось, будто в горах за ним таилась вневременная жизнь. Заливались лаем собаки, слышались крики и конское ржание и все казалось, что это не прошлое, а какой-то затерянный угол, как в незнакомом городе, где ты свернул не туда и случайно вышел в отдаленный сокрытый от глаз район, обнаружив, что там кипит своя жизнь, которую кто-то проживает с рождения и до смерти. Ветер с гор ударил в лицо, перехватило дыхание.
Народа в посаде почти не было, редкие крестьяне поглядывали на староверов словно чего-то таясь. Из той самой центральной кузнечной избы, где они впервые нарвались они на казаков вышел Овчина – один из ближайших Мартемьяну людей. Уперев кулаками руки в бока, он шел на Завадского, насупив брови в сопровождении незнакомых казаков.
– Что, Овчина, не признал? – весело крикнул ему Филипп, но рослый казак лишь сильнее сдвинул брови.
– Животами наземь! Зде! От розвальней [саней] – вон! Зепи [карманы] навыворот! – зычно раскомандовался он и обернувшись к поднявшим на них фузеи казакам, добавил. – Палите абие [сразу] и бердышами рубите, боло [ведь] они при оружии.
Завадского вместе с его верными рындами опрокинули лицами в смешанный с грязью снег, ощупали, поотнимали ножи, забрали спрятанные в телегах ружья и палаши. Затем подняли, и потащили в острог.
Антон, Данила и другие староверы, знавшие Овчину, пытались было заговаривать, но получили крепкие затрещины, так что послетали шапки. Особенно люто бил именно Овчина. Завадский пытался взять себя в руки, хотя его то ли от холода, то ли от волнения слегка потряхивало. Он лихорадочно думал. Казаки – сплошь незнакомые, Овчина – морда кирпичом. Значит столкнули Мартемьяна. Эх, дурак, ругал себя Завадский, ведь стоило догадаться, что неспроста не вернулся Ерема.
Между тем их ввели в острог и первое что увидел Завадский и от чего буквально подкосились ноги – крестовые виселицы на площади почти вровень с высокими стенами, на которых покачивались занесенные снегом трупы не вернувшихся староверов. Ближе к угловой башне висел Ерема – младший брат Капитолины. По взлохмаченным волосам и безбородому лицу узнал его Завадский, само лицо было черным и неузнаваемым, видать его хорошо били перед казнью и сломали лицевые кости.
– Что это, Овчина?! Ты братался с ними! – вскипел Завадский, взмахнув рукой в сторону виселицы и тотчас получил сокрушительный удар в лицо. Густой свинцовый привкус заполнил рот. Завадский упал на колени, выплюнул кровь на снег. Ему заломили руки с такой болью, что он тотчас вспомнил о дыбе, но ярость не давала угомониться.
– Берегись, мразь! – сказал он присевшему к нему Овчине потирающему здоровый угловатый кулак и тот снова ударил его.
Перед глазами все плыло. Весь острог кишел незнакомыми казаками, стрельцами, подьячими. Теснились они у приказной избы, у специальной «тайной», втрое расширенной Мартемьяном под юзилище. Повсюду грудились кони с нарками и салазками. Лошадей кормили крестьяне в зипунах. Толпились служилые и у приказчицкой избы.
Овчину окрикнул кто-то властно, к Завадскому в сопровождении стрельцов шел длинный как жердь человек в болтающемся черном кафтане. Он приказным тоном отдал команду тащить «разбойников» в «канцелярию» и от взгляда Завадского не ускользнуло место казни в углу под башней, все черное с забрызганными кровью до второго моста стенами.
От ударов у Завадского темнело в глазах, он едва не терял сознание. Услышал только какую-то команду, как все затихло вокруг, а служилые расступились. На Завадского вышел бодрый старичок с мартышечьим лицом в шубе в окружении стрельцов.
– Во-но диво дивное, зрите потонку, всей ватажки скопище! – звонкой скороговоркой пропел он, сразу давая понять, что из языкастой породы. – Зде табе и мотыло лихоимское, позорник государя и тати с разбойниками, и веры хулители раскольщики поганые, а ныне, ребятушки к нам и сам алгимей пожаловал. Чудные дела твои господи! В матице огненной поди от такого хоровода разом небесный свод осядет.
– Ну, – уставился на посаженного на колени Завадского старичок, – стало быть ты Филька смутьян и расколоучитель?
Завадский скользнул взглядом по дорогим перстням на белых и небольших как у девицы пальцах старичка.
– Вы меня… с кем-то путаете.
Старичок вскинул на секунду брови, удивившись чудной речи «смутьяна» и двинул пальчиком.
Тотчас Завадскому нанесли два болезненных удара, от которых он едва не отключился. Изо рта на снег потянулась кровавая слюна. Его быстро поставили на ноги.
– Путаники мы, агнцы заблудшие, владыка. Но ты, авва, нам все растолкуешь, пока всею кровью из афедрона не изойдешь. Волоките его, ребятушки, на шибенку, а клевретов ево разбойных – абие на виселицы.