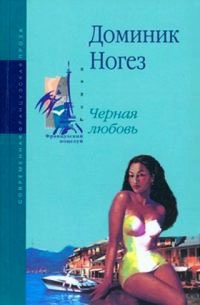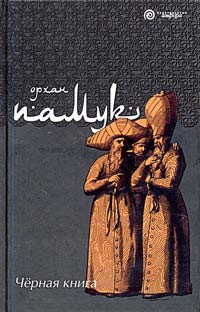повернулась к нам, ее лицо совершенно изменилось. Раньше оно выражало застывшую радость, теперь превратилось в трагическую маску страдания и печали. Крупные слезы текли по ее щекам… Несколько минут спустя видение, вероятно, исчезло. Бернадетта, вновь порозовевшая, жестом дала это понять. „Почему ты перед тем плакала?“ – спросил я ее. Она тотчас, ничуть не смутившись, ответила: „Потому что дама больше на меня не смотрела, она глядела поверх голов на остров Шале и на город. И на лице у дамы вдруг возникла такая скорбь, и она мне сказала: «Молитесь за грешников»“. Поскольку я хотел проверить ее умственные способности, я тут же задал вопрос: „А ты знаешь, кто такой грешник?“ – „Знаю, месье, – быстро ответила она. – Грешник тот, кто любит дурное“. Хороший ответ. Мне понравилось, что она сказала „любит дурное“ вместо привычного „поступает дурно“. Ее слова убедили меня, что нет никаких оснований говорить о слабоумии. Взволнованная толпа между тем с напряженным вниманием следила за происходящим, словно присутствуя на необычайном богослужении. Когда все кончилось, толпа разразилась стихийной бурей аплодисментов, и это произвело на меня гнетущее впечатление, словно опасное явление природы. Бернадетта, однако, не обращала ни малейшего внимания на похвалы и благословения, которые сыпались на нее со всех сторон. Казалось, девочка даже не подозревает, что она значит для всех этих людей. Она явно торопила свою свиту побыстрее уйти, чтобы ускользнуть от обременительных знаков расположения». Это все, я кончил, – сказал доктор Дозу, который с величайшим трудом и многими паузами дочитал наконец свою довольно неразборчивую, но чуть ли не стенографическую запись. Все растерянно молчали. Даже владелец кафе, человек хоть и просвещенный, но простодушный, на этот раз не знал, что сказать. После продолжительной паузы слово взял прокурор.
– Если я правильно понял науку, – суммировал он услышанное, – то она в равной степени исключает как обман, так и душевное заболевание или чудо. Но позвольте мне задать вопрос уважаемой науке: что же тогда остается?
– Да, что же тогда остается? – задумчиво повторил доктор Дозу.
Глава четырнадцатая
Секретное совещание, которое оказывается прерванным
Мэр Лакаде нервно расхаживает по своему кабинету на улице Бур. На нем привычный черный сюртук, ведь еще полчаса назад, украсив себя широкой трехцветной лентой, он проводил очередную праздничную церемонию. В петлице, как всегда, пылает розетка Почетного Легиона. Но физиономия мрачная, словно вокруг сгустились тучи. Гладко выбритые отвислые щеки, под которыми торчит остроконечная бородка с проседью, кажутся еще более сизыми, чем обычно. Причина его дурного настроения лежит тут же, на зеленом сукне стола, за которым сидит его помощник Курреж, отец рыжеволосой Аннет из свиты Жанны Абади. Причина эта – официальное письмо из Аржелеса, подписанное собственноручно господином Дюбоэ, супрефектом.
«Мэру Лурда вменяется в обязанность незамедлительно подать донесение о фактах нарушения общественного порядка в городе Лурде, а также о мерах, принятых для пресечения подобных нарушений и несанкционированных народных сборищ».
– Что же мне теперь, засадить в кутузку Пресвятую Деву? – бушует Лакаде. – Но это не в моей компетенции. Такие полномочия имеет лишь прокурор. Только он может потребовать ее привода силами жандармерии. Государство – это одно, а местное самоуправление – совсем другое. Я представляю общину. Неужели почтенному супрефекту это не ясно?
– Но нам все же придется что-нибудь предпринять, господин мэр, – говорит Курреж.
– Увы, кто это знает лучше меня? – Лакаде в ярости вытаскивает из ящика и бросает на стол целую кипу газетных вырезок. – Вся местная пресса оттачивает на нас зубы, а уж Париж – так просто хохочет…
Курреж, который время от времени поглядывает на дверь, осторожно откашливается.
– Думаю, господин мэр, господа уже ждут…
Лакаде выпрямляется, вытаскивает из кармана расческу и начинает поспешно приводить в порядок свою строптивую бородку.
– Ну что же, Курреж, попросите их войти. Хоть совещание и секретное, но на всякий случай побудьте в приемной, вдруг мне понадобится свидетель.
Мэр протягивает обе руки навстречу имперскому прокурору и комиссару полиции.
– Я нарушил ваш воскресный отдых, господа, – говорит он звучным голосом оратора. – Но как глава здешней общины я не могу больше обходиться без поддержки гражданских властей. Случай очень сложный. Я уже получил официальный запрос господина супрефекта. В нем, конечно, наши беспорядки сильно преувеличиваются. Этим, кстати, грешит вся либеральная пресса, для которой наш бедный Лурд стал лакомой поживой. Мы сделались средоточием огорчительного общественного интереса. Честно вам признаюсь, что для меня небольшой бунт лесорубов или рабочих сланцевых карьеров был бы легче, чем эта кошмарная история, к которой не знаешь, как подступиться. Уж позору-то точно было бы меньше. Я, который прилагает все силы, дабы приобщить наш бедный Лурд к цивилизации, предвижу сейчас полный крах своих планов. Разве после этой шумихи мы получим разрешение на постройку железнодорожной ветки к Лурду? Да мне сразу же дадут от ворот поворот. А новый водопровод? На этой идее можно просто поставить крест. А гости из Парижа? А открытие целебных источников с помощью ученых? Все летит к черту! Какие парижане рискнут приехать в наше захолустье, где нет ни курзалов, ни лечебных заведений, зато есть грязные пещеры, где справляют свой шабаш средневековые призраки? Тут речь идет о куда более серьезных вещах, чем просто о болтовне маленькой лгуньи или идиотки…
– Предлагаю, – прерывает эти стенания прокурор, – для начала ознакомиться с возможностями, которые дает нам закон…
– Это уж ваша область, господа, – вздыхает мэр, откидываясь в кресле, прикрывая глаза и смиренно складывая руки на объемистом животе.
С любовью к эффектным выводам, которая не покидает хорошего юриста даже при остром гриппе, Виталь Дютур, приятно оживившись, приступает к делу:
– Итак, господа, состав преступления следующий. Четырнадцатилетняя девочка низкого происхождения и отнюдь не выдающихся умственных способностей утверждает, что периодически видит некое сверхъестественное существо. Пока в этих голых фактах, согласно нашему кодексу, еще нет ни проступка, ни преступления, которое могло бы быть основанием для вмешательства закона. Даже если девочка станет уверять, что к ней является не кто иной, как Пресвятая Дева, или Богоматерь, то и тогда лишь с величайшим трудом ее можно обвинить в нарушении религиозных правил. Но девочка Субиру, насколько мне известно, говорит только о «даме», о «молодой даме», о «необыкновенно красивой даме». Как ни досадны могут быть эти наивные, я бы сказал, наивно-бесстыдные выражения для истинно верующей души, но назвать их святотатством в чисто юридическом смысле нельзя, так как молодая красивая дама есть всего лишь молодая красивая дама. Следовательно, голые факты, с которыми мы имеем дело, не годятся для возбуждения судебного