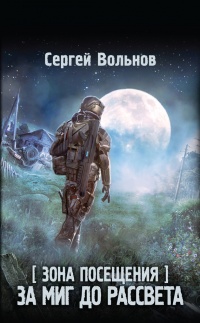— О! Я думал, вы насвистываете просто так.
— Мы думали, вы их сочиняете, — добавил Трон. — На нас они произвели большое впечатление.
Позже, когда молодые люди снова ушли вперед, Варам спросил:
— Все солнцеходы под солнцем такие?
— Нет, — раздраженно ответила Свон. — Я тебе говорила: я сама солнцеход.
Он не хотел ее злить.
— Скажи, у тебя есть еще интересные добавки к мозгу?
— Есть, — отвечала она по-прежнему недовольно. — В детстве мне в мозолистое тело подсадили ИИ, чтобы справиться с судорогами. Потом — часть мозга одного моего любовника; нам захотелось объединить свои сексуальные реакции и посмотреть, что это даст. Как оказалось, ничего, но, я полагаю, он еще там. Есть и другое, но я не хочу говорить об этом.
— О боже! Это не мешает?
— Нисколько. — Она все больше мрачнела. — А в тебе что, ничего нет?
— Ну, вероятно, как у всех, какие-то мелочи, — примирительно ответил Варам, хотя на самом деле ему редко приходилось слышать о таком количестве добавок. — Я принимал вазопрессин и окситоцин — по назначению.
— Они оба — производные от вазотоцина, — авторитетно сказала она. — Из трех аминокислот отличается только одна. Поэтому я принимаю вазотоцин. Очень древний. Он контролирует сексуальную жизнь лягушек.
— И мою.
— Нет, это именно то, что тебе нужно.
— Не знаю. Я прекрасно себя чувствую с вазопрессином и окситоцином.
— Окситоцин — это социальная память, — сказала она. — Без него человек не замечает других людей. Мне нужно его больше. И вазопрессина, вероятно, тоже.
— Гормон моногамии, — сказал Варам.
— Моногамии у самцов. Но всего три процента млекопитающих моногамны. Даже у птиц больше.
— Например, лебеди, — подсказал Варам.
— Да. А меня зовут Свон-Лебедь. Но я не моногамна.
— Нет?
— Нет. Зато я пристрастилась к эндорфинам[43].
Он нахмурился, но решил, что она шутит, и попытался продолжить:
— Это же примерно как завести собаку или кого-то еще?
— Мне нравятся собаки. Собаки — это волки.
— Но волки не моногамны.
— Нет, зато эндорфины моногамны.
Он вздохнул, чувствуя, что перестал понимать Свон и ее речи.
— Прикосновение любимого вызывает усиление выработки эндорфинов, — сказал он и на этом оставил тему. Невозможно вечно высвистывать «Лунную сонату».
Ночью, когда они спали в туннеле на своих маленьких аэрогелевых матрацах под тонкими одеялами, он проснулся и обнаружил, что Свон передвинулась и теперь спит, прижавшись спиной к его спине. Прилив окситоцина на какое-то время облегчил боль в ногах: так это можно было истолковать. Разумеется, стремление спать рядом с кем-то, удовольствие от неодинокого сна не вполне синонимичны сексу. Это успокаивало. В другом конце помещения три дикаря спали, свернувшись, как котята. В туннеле было тепло, иногда слишком тепло, но на полу делалось холодно. Варам слышал, как Свон очень тихо мурлычет. Кошачьи гены — да, он слышал о таком: говорят, очень приятное ощущение, сродни негромкому пению. Мне хорошо, мурр, мурр, мне лучше: позитивная обратная связь добавляет удовольствия, образуется петля, в такт дыханию; во всяком случае, судя по мурлыканью Свон. Другой тип музыки. Хотя Варам очень хорошо знал, что иногда больные кошки мурлычут от временного облегчения или даже в надежде почувствовать себя лучше — пытаясь начать петлю обратной связи. У него был кот, который перед самой смертью так делал. Пятидесятичетырехлетний кот способен произвести сильное впечатление. Утрата этого древнего евнуха была одной из первых утрат Варама, и он вспоминал особенно жалобное его мурлыканье перед самым концом — звук слишком интимного переживания, чтобы можно было его назвать. Его добрый друг умер мурлыча. И теперь, слыша мурлыканье Свон, Варам почувствовал легкую тревогу.
После сна — дальше по туннелю, еще не полностью проснувшись. Утренний час. Высвистывание медленной части «Героической» — похоронного марша Бетховена, казалось Вараму: написано так, словно внутри его кто-то умирал.
— Мы живем час, и он всегда один и тот же, — процитировал Варам.
Потом адажио первого из поздних квартетов, опус 127, вариации на тему, очень богатые, такие же величественные, как похоронный марш, но более обнадеживающие, полные любви к красоте. И дальше третья часть, до того сильная и жизнерадостная, что могла бы быть четвертой.
Свон угрюмо взглянула на него.
— Будь ты проклят. Тебе это нравится.
Хриплый смех вызвал приятное ощущение в груди.
— Опасность для него как вино, — проворчал Варам.
— А это что?
— «Оксфордский словарь английского языка». Там вычитал.
— Любишь цитаты.
— «Мы прошли большой путь и нам еще долго идти. И мы где-то посреди».
— Послушай, что это? Предсказание будущего из печенья?
— Кажется, Райнхольд Месснер[44].
Надо было признаться, что ему это действительно нравится. Еще всего двадцать пять дней — более или менее; не так уж много. Терпимо. Самая итеративная псевдоитеративность в его жизни; она интересна тем, что это крайний случай, которого он, вероятно, искал. Reductio ad absurdum[45]. Этот туннель дает не только сенсорную депривацию, но и сенсорную перегрузку, хотя лишь в нескольких отношениях: стены туннеля, бесконечные огни на потолке впереди и позади — вот все, что они могут видеть.
Но Свон это не нравилось. Этот день казался хуже предыдущих. Она даже пошла медленнее, чего никогда еще не бывало; Вараму пришлось остановиться и ждать ее, чтобы не уйти далеко вперед.
— Ты в порядке? — спросил он, когда Свон догнала его.
— Нет. Чувствую себя дерьмово. Думаю, начинается. Ты что-нибудь чувствуешь?
У Варама ныли ноги и колени. Но лодыжки были в порядке. И спина не болела, когда он начинал идти.
— Тело болит, — признался он.
— Меня беспокоит эта последняя солнечная вспышка. Когда видишь такую, более быстрое излучение уже настигло тебя. Боюсь, мы поджарились. Я себя ужасно чувствую.
— Мне немного больно, и все. Но ведь ты прикрыла меня у лифта.