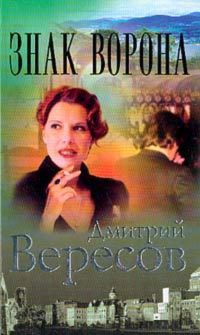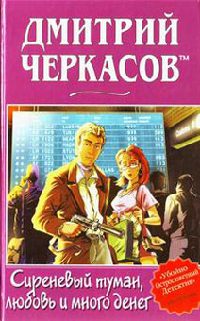Гоча только усмехнулся. Ему Айшат была глубоко безразлична.
Доложили командиру. Доложили и про то, как Айшат купалась в реке. А от себя Гоча доложил и про то, что Хохлу хотелось бабу.
Лека молча выслушал. А через полчаса вызвал к себе обоих хохлов. И Степана, и Тараса.
Гоча очень удивился, когда назавтра, в повторную разведку послали двоих хохлов. А его, Гочу, не послали.
Хохлы долго шептались о чем-то с командиром, а потом переоделись в русское — в хэбэшки и береты МВД… Переоделись и тихо ушли.
В отряде не принято много болтать. Да и некогда. Дел много…
Айшат едва живая доползла до дома. Ноги не шли. Ноги только волочились. Едва-едва. И кричать она не могла. Губам было больно. Они распухли, и набухли, словно налитые изнутри каким-то твердым воском. Она не могла говорить. Только выла:
— А-а-а-а… — И снова: — А-а-а-а….
Айшат подползала к своему дому и думала о том, чтобы только не попасться на глаза Сажи. Только бы не попасться… И все же потеряла сознание. От боли и ненависти. От ненависти и от позора.
И мать, сжав рот в немом крике, обмывала ей бедра и живот. А Сажи стояла рядом и безмолвно смотрела.
— Кто? — спросила мать.
— Русские, — еле ворочая языком, ответила Айшат.
Отряд стоял в поселке три дня. Резали баранов. Варили мясо. Плясали…
Сажи не ходила глядеть на пляски. Маленькая Сажи из сочувствия и солидарности сидела возле Айшат… И на третий день мать сама сказала… Не Айшат, а мать… Сказала, что русским надо мстить.
Дядя Лека долго расспрашивал мать, как выглядели те русские, как их звали, какая на них была форма… И уходя, дядя Лека сказал, что через месяц, как только Айшат поправится, он ее заберет. Заберет в специальный отряд, где готовят девушек для мести.
Глава 10
…Тянется к ним сердце и трепещет;
Глаз твоих они коснутся взглядом —
И душа твоя в тревоге вещей:
Ты прочтен мгновенно, ты разгадан!
Сладостна свобода мне, но слаще
Стать рабом их, — да они далече…
Черных этих, огненных, манящих —
Этих глаз в России я не встречу.
И.Г.Чавчавадзе
Долгую жизнь прожила старуха Хуторная, прожила небогато, в чем в церковь ходила, в том и квашню месила. Ко всему привыкла, притерпелась, с бедняцкой жизнью спелась. Одно только ее задевало каждое утро и всякий вечер. С других дворов выгоняют на поскотину гладкий и холеный скот, а она все провожает свою единственную старую коровенку, хроменькую, с потертым боком. Такую убогую, что даже клички у нее никакой нет. Зачем нищете и убожеству имя? Пусть так ходит.
Только последнее время старуха Хуторная перестала вздыхать на свою скотину, стыд перед станичными бабами словно отошел куда-то. А все из за девоньки этой, Ашутки. Ну и пущай чеченка! Ну и пусть нехристь! Ведь коли на казака посмотреть повнимательней — черкеска, газыри, бешмет — тот же татарин. А что нехристь, так это дело поправимо. И Христос когда-то принял крещение от Иоанна. А она уж Ашутку покрестит. Дай только срок!
Зато — огонь девка! Не злой, степной пламень, а веселый печной. Выскочит на рассвете коровенку выгонять, и погладит, и почешет, и поговорит с ней по-своему. А скотина, будто понимает, головой своей старой покачивает. Может, корова эта была татарская? Вроде, нет. Но ведь понимает, чертяка рогатая! Будто и помолодела. Раньше позади стада плелась, а теперь в середке вышагивает. Возгордилась! Как бы приплод не принесла! Так-то хвостом теперь машет! Может, слово какое коровье Ашутка знает? Спрашивала ее — смеется. Так понимала старуха, что любит Ашутка животину, потому и толк выходит.
А вчера поутру, когда Акимка собирался в разъезд, старуха еще только в избушку пошла за молоком, назад с кринкой еще не оборотилась, а Ашутка уже с поскотины прибежала, тесто замесила и давай лепешки одну за другой выпекать. А пока руки маленько свободны, творог с топленым маслицем замешала, яичка рубленного добавила. «Колдуй дятла», — говорит, смеется. Пущай себе «дятел колдует», главное, что казак поехал на службу сыт и доволен. «Вкусно, — говорит старая Дарья. — Праздник у нас какой сегодня?»
Ашутка поняла, засмеялась, заставила старуху поесть. Та отнекивалась поначалу — мол, святым духом уже питаюсь, похлебаю молочка, да и сыта. Разве Ашутка отстанет? Накормила старую. Сама рядышком сидела, глазищами сверкает, на щеках ямочки-дразнилки, то спрячутся, то покажутся.
— Ох, мать моя, — сказала старуха, — уж как накормила, давно так не ела. Спасибочки, Ашутка! Кормилица ты моя!
Тут же спохватилась — не постный ли сегодня день? Испугалась, руками всплеснула. Потом вспомнила, что четверток.
— Проказница-коза, до чего старуху довела? Всех святых с тобой, девка, позабудешь. Погоди ужо, покрестим тебя. В церкву со мной ходить будем, Богу молиться, в грехах каяться, поститься будем. Ведь без поста какой праздник? А я, знаешь, как праздники люблю? Что ты, Ашутка! В церкви красиво и торжественно, и на душе такая благодать, что мне, старухе, и помирать не страшно. А выйдешь из церкви — вокруг та же Божья красота, на всем белом свете. Птицы, звери, деревья, травки, на них кузнечики — все радуется. Да что я говорю! Сама все увидишь, красавица ты моя…
Поняла ли Ашутка, что говорила старуха, только подскочила вдруг, обняла ее за плечи и голову свою смоляную на высохшей груди старухиной спрятала.
— Нана, нана, — говорит, и смеется, и плачет.
Тут уж только пес не поймет, что это мама означает по-чеченски. Посидели две бабоньки — старая и молодая, — поплакались каждая на своем языке, и пошли хлопотать по хозяйству.
Говорила, что смерти не боится, но не хотелось теперь старухе Хуторной помирать. Теперь-то при такой помощнице и виноград снимут, как люди, и чихирь продадут по осени. Там, с Божьей помощью, коровку ладненькую прикупят, а то и буйволицу. А может, и Акимка из похода добра трофейного привезет. Гляди ведь, каким он теперь джигитом ходит. Не хуже дружка своего горемычного Фомки Ивашкова. Пусть девки мокрохвостые брешут, что с бабами пужлив он. Вот вернется из набега с полными саквами добра, а может, Господь сподобит, так и орден заслужит от государя батюшки. Тогда эти лягухи языки-то свои и поприкусывают, сами будут к Акимке ластиться, а ему все нипочем. Потому как другая у него зазнобушка.
Только стала загадывать старуха на Ашутку, как та враз переменилась. Села в самый темный угол, голову обернула платком, словно в хате их песчаная буря. Сидит оцепенело, позабыв и про корову, и про лепешки.
Попробовала старуха подойти, заговорить с ней ласково, не подпускает к себе, шипит, как одичалая кошка, руку перед собой выставляет. Словно бес в Ашутку вселился! А не она ли вчера наной старуху назвала, обнимала ее, слезами платок ее вымочила? Будто подменили девку!