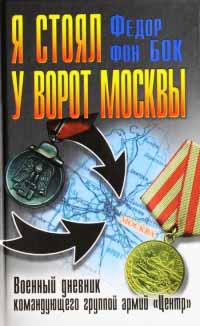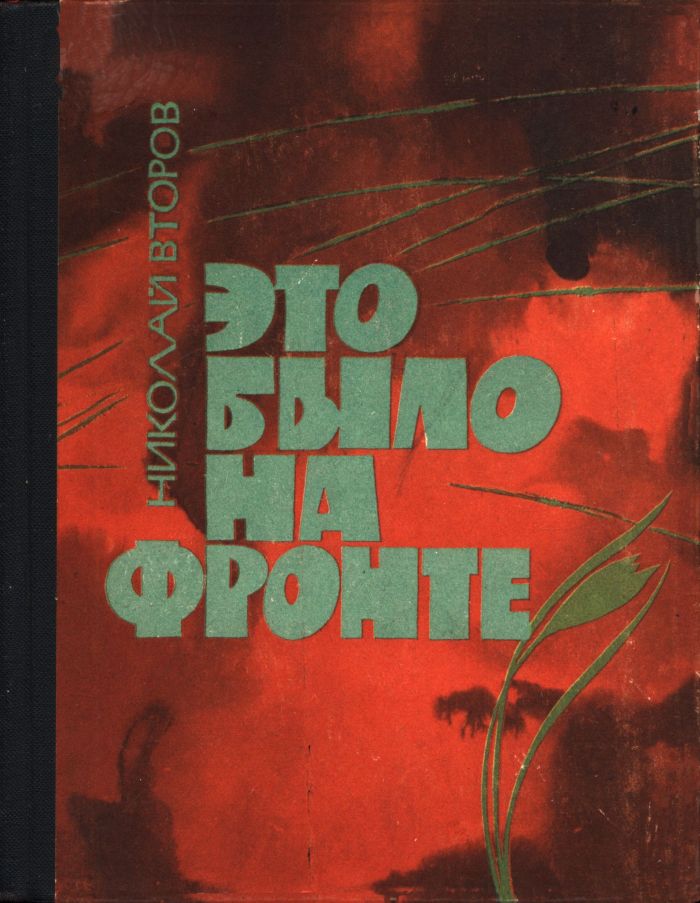потому что, стоило хоть немножечко напрячь их, я весь начинал дрожать. Так я сидел, бессильный, вялый, и, подняв глаза, снова увидел мчащийся самолет и капельки бомб, отделившиеся и падающие вниз, и все тело мое мучительно ждало разрывов, и земля вздрогнула, как будто неосторожно притронулись к наболевшему месту. И я почувствовал, что больше не могу, ни за что не могу больше терпеть. Мне захотелось сказать кому-нибудь о том, что вот я, Леша, не могу больше — чтобы прекратили.
В это время зашевелился лежавший передо мной человек. Я узнал Лопухова. Он встал на четвереньки, но руки не держали его. Завывая, с неба помчался на нас самолет, и опять отделились бомбы, и раздался свист, который уже нельзя было переносить. У Лопухова подогнулись руки, и он лег на землю. Над траншеей пронеслась туча земли, камни, осколки металла, и Лопухова осыпало пылью. И когда пыль осела, он очень медленно выпрямил сначала одну руку, потом другую и сел. Он посмотрел на меня. У него было совсем белое лицо и синеватые губы. Лопухов усмехнулся.
— Ну как, — медленно произнося слова, спросил он, — достается немного?
— Достается, — так же медленно сказал я.
— Но держимся? — протянул Лопухов.
— Держимся, — ответил я, чувствуя, что это вранье, что вовсе я не держусь, что, наоборот, распустился совсем и сил у меня нет больше ни капельки.
Снова сверху, воя, ринулся на нас самолет и свистнули бомбы, и мы прислонились к откосу траншеи и даже не вздрогнули, услыша разрыв, — до такой степени вялыми и бессильными были мы сейчас.
Немецкая карусель (продолжение)
Сверху упал большой ком земли. Подсохшая желтоватая трава росла на нем. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Передо мной росла трава, простая, обыкновенная трава, высохшая и пожелтевшая за лето. Я представил себе, что это крошечный кусочек поля, а поле большое, оно идет далеко-далеко за станцию, за деревню, туда, куда уходят поезда. Будто я вышел за город и лег на землю и прищурил глаза.
«Господи, как хорошо, — думалось мне. — Нет никакой войны и никогда не будет. Приду я домой…»
Я представлял себе с удивительной ясностью, как вхожу в столовую, как спрашивает меня отец, хорошо ли мне гулялось, как Николай и Ольга прощаются с нами — они идут сегодня в театр, а я раздеваюсь и ложусь в постель, но лампы не гашу. На заложенной странице открываю «Всадника без головы», и ветер колышет траву пампасов, и в косых лучах заходящего солнца ужасной кажется таинственная фигура, сидящая на огромной лошади. Нет, нет, не прислушиваться ни в коем случае. Не слышать, как воет самолет, не слышать страшного и противного свиста. Ерунда это. Разве такое бывает? Это мне просто приснилось, потому что я начитался страшных рассказов. На самом деле мне одиннадцать лет, я гулял за городом, а сейчас лежу и читаю; Ольга и Николай скоро вернутся из театра и будут рассказывать отцу содержание пьесы, а после Коля войдет в комнату тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить меня, и скажет: «Да ты, негодяй, не спишь еще?» И сядет ко мне на постель, и ласково будет со мной шутить, но все же отнимет книгу и погасит свет. И как приятно будет вытянуться под одеялом, зажмуриться и зевнуть, и слышать сквозь сон, как, раздеваясь, возится Николай. Нет, нет, не слышать, как ревет самолет, и этого свиста не слышать, и не чувствовать, как содрогается земля, а то я закричу и Николай разбудит меня, чтобы мне не снились такие ужасные сны.
Неужели это я застонал? Я открываю глаза. Как страшен мир! Распластавшись на земле, лежат люди. И вот один из них поднял лицо и громко стонет и смотрит мутными, ничего не выражающими глазами. По костюму узнаю: это Вася Грудинин. Лица его я не узнал бы, такое оно измученное и такие мутные у него глаза. Нет, нет, не слушать, как ревет самолет, не ждать разрыва. Вот уже земля содрогнулась, значит, снова мимо, значит, еще минута жизни.
Сколько времени мы так лежим? Наверное, много, час или два, а может, и десять часов. Минуты не отличаются друг от друга, одна похожа на другую. Только рев самолета, только разрывы. Сколько их было? Тысяча, миллион? Почему я опять лежу? Я чувствую, что не могу больше. Я встаю, и рядом со мной поднимается Лопухов, он пытается встать на ноги, но ноги его не держат, и Грудинин встает, и братья Луканины поднимаются один за другим. Может быть, так будет легче, если стоять и прямо смотреть наверх. По траншее идет старик Калмыков. Он бледен, но все-таки улыбается. Правда, это жалкая, кривая улыбка, но мы уже не можем улыбаться даже так. Я не слышу, что он говорит. У меня звенит в ушах и кружится голова. Вот опять ревет самолет, и опять содрогается земля, и из последних сил я стараюсь растянуть губы в улыбку. И, боже мой, когда это кончится, сколько это может тянуться?
Я вижу все как в тумане. Мир как будто подпрыгнул у меня в глазах, комья земли летят один за другим. Старик Калмыков пробегает мимо. Лицо его взволнованно и озабоченно. Что такое случилось? Оказывается, у нас еще хватает сил повернуться и посмотреть вслед Калмыкову, и даже те, кто еще лежал, встают. И вот уже кто-то, — мне видна только его спина, — лезет вон из траншеи, и это кажется нам сигналом. Мы все лезем за ним, мы подсаживаем друг друга. Скорее, скорее вон отсюда! Довольно! Больше у нас нет сил. Мы сделали все, что могли.
И вот я, подтянувшись на руках, вылезаю на поверхность. Надо мною завывает «Юнкерс», земля вздымается вверх, возле шоссе, правее школы и возле дома Орса. И рядом со мной вылезают из-под земли испуганные жалкие люди. Как мир изменился, пока мы сидели в траншее! Не поймешь, где была спортплощадка, где росли березы, где стояли «гигантские шаги». Только горы и пропасти, ямы и холмы. Сад перекопан гигантской лопатой. Желтоватая, свеже вырытая земля и ни одной травинки, только ямы и нагромождения невысоких гор. И вот мы выскочили все на эту незнакомую поверхность и бежим, пригибаясь, сами не зная куда — к шоссе, за шоссе, куда угодно, чтобы только уйти от этого непрекращающегося дождя бомб.
Да, все мы были в таком состоянии, что когда в соседнюю траншею попала бомба, и там убило и ранило несколько человек, и кто-то один вдруг бросился вон из траншеи, мы