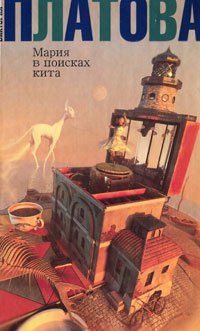Колридж смотрит из окна своего кабинета и видит не только облака на горизонте, чей зеленый свет больше не вызывает в нем чувств. Он также видит облака из другого времени: «ярко светящиеся, обволакивающие землю, он видит бьющую ключом жизнь, одновременно облака и ливень», сводящиеся к простому, но в то же время непереводимому слову «Joy», в котором слились личные и политические страсти недавнего прошлого, еще бурлящей жизненной силы. Потому что это светящееся облако не только бесконечная цепь желаний. «Светлое, легкое и непостоянное», оно может «опоясать землю» — по крайней мере так воображал гражданин Самюэль в Бристоле. И сейчас он смотрит в эту утерянную мечту с убогой крыши своего настоящего, в самое сердце прошлого, к которому прочно приросли вены и артерии будущего. Он с болью решает, что пора остановить кровь.
Конечно, не обошлось без того, чтобы добавить несколько пожеланий своей возлюбленной. «Пусть звезды светят над твоим домом, молча, как будто рассматривают спящую землю!» Я же отойду от потоков, течений и свечения. Пусть мне в будущем будет достаточно одноцветных облаков на потолке. Домовая книга закрыта, а испещренные надписями линии остались. О любимая, «Dear Lady, желаю тебе быть всегда радостной». По крайней мере тебе.
Хотя он сидит там, как кролик перед змеей (которая и есть то самое жаждущее тело думающего кролика), последняя чувствует, что у нее больше нет желания съесть его. Змея скрывается в щели в полу.
Но когда она вернется, это будет ужасно. Слишком долго оставалась она без кормушки души. В конце концов она будет искать ее, как кровожадный монстр. Берегись сна! Жадность голодных, изгнанных из стеклянного дома души, но порожденных ей самой существ когда-нибудь станет ненасытной. Ночью они вгрызаются, днем их едва можно укротить опиумом. Скоро они будут везде. «Enveloping the earth»,[111] — говорит Колридж. Кстати, о завоевании. Мне пора бы написать Анне.
9
Я принял решение — немного отодвинул посещение Грета-холла и вернулся в долину. Промокший от пота и дождя, я вряд ли вызвал бы там доверие к себе. Кроме того, я вспомнил, что где-то читал о том, будто почтенный дом в настоящее время превратился в школу-интернат для девочек. Внушающая страх мысль. Я представляю, как звоню в дверь и мне открывает элегантная дама. Я говорю:
— Извините, пожалуйста, я могу посмотреть комнату, где жил поэт Колридж? Ну, знаете, тот, который начиная с 1800 года под влиянием опиума и коньяка писал отчаянные стихи и письма. Видите ли, госпожа директор, я и моя подруга мечтаем о том, то есть подруга одного моего аспиранта думает, что мне лучше всего следовало бы просто посмотреть… Конечно, вы понимаете то колоссальное значение, столь важное для меня…
Мой желудок урча ассистировал моему заячьему сердцу. Я уже забыл о Грета-холле, а справа остался Мут-холл. Обед в центре города — удовольствие для новичков. Я же прошел вдоль дороги Святого Джона на север — ряды домиков заметно поредели — и остановился напротив индийского ресторана. Внешне он выглядел совсем недурно: золотые головы драконов и львов, бархатная обивка на креслах, — конечно, ничего сверхъестественного, но и не предвещающего ничего опасного. Я бесстрашно вошел внутрь, плюхнулся на красную софу, стоящую в углу, и просто посидел несколько минут. В конце концов, усталость от физической нагрузки я испытываю не каждый день. Но долго наслаждаться этим состоянием я не смог: передо мной возник строгий мужчина в ливрее и протянул меню, тут же спросив о моих предпочтениях.
— Я хотел бы сначала осмотреться, — сказал я.
— Хорошо, — ответил официант, — только быстрее. Ваш столик заказан.
— Приложу все усилия, не сомневайтесь. — Я заказал пинту «Джона Смита». Но такого у них не оказалось.
По прошествии стольких лет моей побочной деятельности я все равно был удивлен тому, какие фатальные последствия может повлечь за собой ошибочный первый взгляд.
В конце концов на мое блюдце приземлился цыпленок «тандури». То, что в лучшие времена должно было быть ножкой цыпленка, сейчас напоминало брикет яйцевидной формы. После того как я осторожно приподнял поджаренную кожицу, оттуда показался розовый остаток мяса в форме эмбриона. Я наколол его на зубочистку и положил на серебряный поднос. На приеме у радикального исследователя клонирования такой экземпляр произвел бы фурор.
Я засунул под блюдце фунтовую банкноту и ушел.
Уже в центре города я встал в очередь за многочисленными куртками к киоску с надписью «Рыба и закуски» с многообещающим названием «Старый кесвиканец». Когда наконец пришла моя очередь, я заказал двойную порцию трески и чипсов. Я попросил упаковать все в бумагу и пошел дальше по улице. В то время как тепло еды все выше поднималось по моим рукам и растекалось по телу, я шел к ангелу-хранителю всех падших из-за алкоголя ангелов. Упаковка «Джона Смита» из четырех банок должна была отправиться в последний путь вслед за рыбой.
В качестве подходящего местечка для пикника я облюбовал деревянную скамейку на утесе Фрайр. Достойное место для усталого путешественника после покорения вершины. Перед мысом простиралось озеро, которое я сегодня наблюдал с огромной высоты. Сейчас оно блистало в лучах заходящего солнца, словно опрокинутый сундук с сокровищами морских пиратов, охраняемый великанами с такими шикарными именами, как Хиндскарт, Хай Стайл, Грейт Энд или Гларамара — младшими братьями сэра Скиддау, лорда Дервентских вод. Пиво проникло в самые потаенные уголки моего тела и безупречно протолкнуло британские национальные блюда. Должен признать, господин Альбион не является отцом вкусовых удовольствий. Все же тот, кто морщит нос от подобных ощущений вкусов, например от сочетания на языке золотистых картофельных чипсов с уксусом, не имеет абсолютно никакого понятия о силе вкусового разнообразия.
— Бледное острие, — крикнул я пренебрегающим, в то время как Гларамара получила воздушный поцелуй солнца сквозь просвет в облаках и позволила своим волосам играть на солнечном свету, — тот, кто не умеет ценить неотесанность, рано или поздно погибнет от рафинеров. Это уж точно.
Я явно недооценил реакцию четырех быстро удалившихся просителей. Мне было нелегко подняться со скамьи. Ах, эксцессы, эксцессы! Я поднял свою пятую точку с насиженного места, имея на то серьезные основания. Когда я взбирался по озерной дороге, земля качалась у меня под ногами. Пешеходы бросали на меня взгляды, а один даже пробормотал:
— Bloody old beer heads in the fucking lakes.[112]
— О Дервент, — сказал я громко, — дорогой Дервент, ты, давший имя сыну Эс-тэ-ка! Люди вокруг, они недооценивают нас с тобой!
Я лег в своей комнатушке на кровать, накрылся одеялом с головой и крепко заснул. Даже свет сна ни разу не вспыхнул в тумане, сквозь который я тащил свою ночную повозку.
Подразумевалось: только домой.