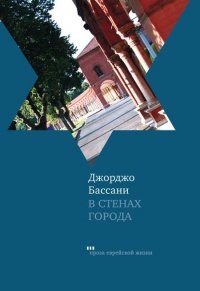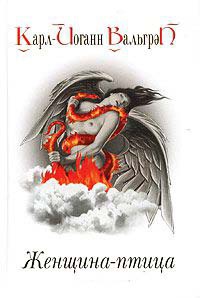Царь бабушка Яга похожа на врага,Хотя на самом деле – мать родная.Царь Бабушке Яге я припадал к ноге,Свой скромный стих – во славу ей слагая!
Царица посмотрела на палача. За первую строку, где царица сравнивалась с бабушкой, похожей на врага, Ваньку нужно было обезглавить, а за три других строки смело можно было дать «Орден золотого беса». И потому царица замерла в нерешительности, не зная, как быть…
И тут Ивашка снова заговорил стихами, словно кто-то под ребро толкал – давай, давай, смотри, как лихо получается. И Подкидыш давал – импровизировал, закатывая очи к потолку.
Стою, смущаясь и робея, Стыжусь Ивана-дурака… Но я бессмертнее Кощея – Во мне народ, во мне века! И всех на свете красивее – Родная бабушка Яга!
Царица от восторга в ладоши захлопала.
– Златоуст! – похвалила. – Ой, Златоуст!
И все, кто был под сводами дворца, одобрительно гудели.
– Златоуст! – раскатывалось эхо. – Златоуст!
И вдруг откуда-то прислуга прибежала и на рубаху Ивашке прикрутили здоровенный орден, похожий на блюдце, на котором лежат бриллианты вперемежку с золотыми россыпями. «Орден золотого беса», вот что это было, но Подкидыш этого уже не мог сообразить. Он уже почти себе не принадлежал – вольному воля, а пьяному рай.
Вот в таком раю он оказался и не заметил, как здоровенные дворцовые часы, на которых стрелки были похожи на два старинных златокованых копья, – стрелки приблизились к полночи. И веселье разгоралось – просто жуть. Разноцветные шутихи вспыхивали там и тут. И всё больше и больше дворец напоминал королевство кривых зеркал – все уже были кривые, в том смысле, что пьяные. Фривольные парочки – сначала по тёмным углам, а вскоре уже и на свету интимное дело – интёмное – стали беззастенчиво проделывать. Ивашка поначалу не знал, куда глаза упрятать, чтобы не смотреть на срамоту. А потом стало во рту пересыхать. Он дерябнул какого-то зелья, оказавшегося под рукой, и в молодом организме стал подниматься нестерпимый зуд – сладкими занозами колол…
И тут Воррагам появился, панибратски хлопнул по плечу.
– Ну, что? Созрел? Тогда пошли. Посмотришь, как художники работают.
Просторный зал, куда они притопали, был похож на гулкую общественную баню – гулкую, туманную от каких-то заморских благовоний. Там и тут звоночками звенели молодые и весёлые голоса девчат и юношей. Кое-где завеса тумана и дыма приоткрывалась, и Подкидыш видел, как вдохновенно и самозабвенно художники работают с голой натурой. И художников этих, и этой натуры было тут – до черта. Только сами художники, честно сказать, Подкидыша интересовали постольку поскольку, а вот натура – это да, это привлекало, глаз не оторвать. Одна за другой – величавые, стройные, готовые на подвиги во имя искусства – натурщицы чередой проходили перед глазами парня. Кто-то кланялся ему, кто-то шаркал ножкой в золотом или серебряном башмачке. Натурщицы были прикрыты – кто фиговым листом, а кто листочком рукописи. А иногда встречались и такие, кто был вполне прилично приодет. А иногда вдруг перед ним вставала девица в такой шикарной одежде, которую невозможно сделать без волшебства-колдовства.
– Выбирай. – Воррагам предложил так спокойно, как цыган на ярмарке предлагает на выбор всяких разных кобыл. – Не стесняйся, милый. Будь, как дома. Любая с тобой согласится…
– А кого тут выбирать? – Подкидыш скривил губу, над которой дыбом встопорщились пшеничные усики. – Сплошные лахудры!
– Да ты что? Разуй глаза!.. Вот эта, например, смотри…
– Фигня! Колхозные кобылы и то стройнее!
– Ну, ты, нахал! Да на тебя не угодишь! – сердито сказал Воррагам и вдруг многозначительно прошептал на ухо: – Хотя я знаю, знаю, знаю, кто тебе нужен! Сейчас твоя мечта исполнится, Ванёк! И в тот же миг – он глазом не моргнул! – два дюжих молодца в красных рубахах, словно два заправских палача, подхватили Простована под микитки и потащили на плаху. Широкая длинная плаха была – двуспальная, заваленная белыми лебяжьими перинами. Плаха эта на золотых львиных лапах стояла посреди опочивальни Царь-Бабы-Яги. Бедняга не сразу понял, где он есть – всё перед глазами расплывалось, туманилось от благовоний. А потом… потом он заметил золотую вставную челюсть, лежавшую в стакане с водой на столике. Золотой оскал звериной челюсти – там были здоровенные клыки! – горел в лучах настольной маленькой свечи, тёмное пламя которой поразило Ивашку; это было чёрное, дьявольское пламя, пламя похоти… Под горло подкатила тошнота, и парень поначалу головой шарахнулся куда-то в стену – не сразу дверь нашёл. А за дверью – охрана. Подкидыш плохо помнит, что он сделал с двумя или тремя чертями, одетыми в костюмы стрельцов; кажется, он обломал им рога и хвосты оторвал.