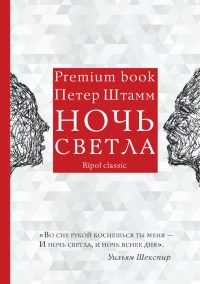своим близким, пока его не разбил паралич после нескольких приступов подагры. И вот он уже много лет либо лежал в постели, либо сидел на своем странном стуле, подпираемый со всех сторон подушками. Жена мастера сообщила, что раньше брат часто и очень красиво пел, но она уже давно не слышала его пения, и здесь, у них дома, он тоже еще ни разу не пел. И пока все это рассказывалось и обсуждалось, он молча сидел и смотрел на свои руки. Мне наконец стало не по себе, и я распрощался, ушел и некоторое время не показывался в доме ремесленника.
Всю свою жизнь я был здоров и силен, не перенес ни одной сколько-нибудь серьезной болезни и смотрел на немощных, особенно на калек, с жалостью и некоторой долей презрения, и, конечно же, мне трудно было смириться с тем, что моя светлая, теплая дружба с семьей ремесленника омрачена тягостным бременем этой убогой, искалеченной жизни. Поэтому я откладывал свой следующий визит со дня на день и тщетно старался придумать, как бы избавиться от паралитика Боппи. Должна же быть какая-нибудь возможность поместить его с малыми затратами в больницу или приют, думал я. Несколько раз я порывался отправиться к мастеру, чтобы обсудить с ним этот план, но никак не мог решиться первым заговорить об этом, к тому же я боялся встречи с больным, как ребенок. Мне было противно здороваться с ним за руку и постоянно видеть его.
Так миновало одно воскресенье. В следующее воскресенье я уже готов был ранним поездом отправиться куда-нибудь в сторону Юры, но вдруг устыдился своей трусости и остался в городе, а после обеда пошел к ремесленнику.
Я с отвращением подал Боппи руку. Мастер был в дурном расположении духа и предложил совершить прогулку, заявив, что ему опостылела эта жалкая жизнь, и я обрадовался этому, ибо таким он был более доступен для моих предложений. Жена его хотела остаться, однако Боппи стал уверять ее, что в этом нет нужды, что он прекрасно может посидеть и один; кроме книги да, пожалуй, стакана воды под рукой, ему ничего не нужно, и мы можем спокойно запереть его на ключ и без всяких забот отправиться на прогулку.
И мы, считавшие себя славными, добросердечными людьми, – мы заперли его на ключ и ушли гулять! И мы веселились, забавлялись с детьми, радовались ласковому, золотому осеннему солнцу, и никому не было совестно, ни у кого не сжалось сердце при мысли о том, что мы оставили калеку одного в доме! Мы даже рады были, что освободились от него хоть ненадолго, и, предавшись чувству облегчения, жадно вдыхали прозрачный, теплый воздух и являли собой отрадное зрелище милого и благочестивого семейства, которое с пониманием и благодарностью принимает Господень день.
Лишь когда мы в Гренцахе[32], проходя мимо кабачка Хёрнли, решили выпить по стаканчику вина и расселись за столиком в саду, мастер наконец заговорил о Боппи. Он сетовал на эту лишнюю обузу, жаловался на тесноту и увеличившиеся расходы и в конце концов, рассмеявшись, сказал:
– Слава Богу, хоть здесь можно часок отдохнуть от него и повеселиться!
При этих необдуманных словах его я вдруг живо представил себе глаза бедного калеки, исполненные боли и мольбы; я увидел его, которого мы не любили, от которого рады были избавиться и который сидел сейчас взаперти, в маленькой, сумрачной комнатке, покинутый нами, одинокий и печальный. Мне пришло в голову, что скоро начнет смеркаться, а он не в состоянии зажечь свет или подвинуться ближе к окну. Стало быть, ему придется отложить в сторону книгу и сидеть в полутьме, не имея ни собеседника, ни какого-либо занятия, в то время как мы пьем вино, смеемся и весело болтаем. А еще мне пришло в голову, что не так уж давно я рассказывал своим ассизским соседям о святом Франциске и хвастал, будто бы он научил меня любить всех людей. Для чего же я усердно изучал жизнь этого святого, для чего затвердил наизусть его восхитительную песнь любви и искал его следы на умбрийских холмах, если рядом страдает несчастный и беспомощный человек, которого я знаю и мог бы утешить?
Чья-то незримая, но могучая десница опустилась мне на сердце, сдавила его и наполнила его таким стыдом и такою болью, что я задрожал и весь отдался во власть этой силы. Я понял: это Бог пожелал напомнить мне о себе.
– О поэт! – молвил он. – О ученик славного умбрийца, о пророк, вознамерившийся осчастливить людей, научив их любви! О мечтатель, возжелавший слышать мой голос в шуме ветра и волнующихся вод! Ты полюбил некий дом, в котором тебя встречают как желанного гостя и где ты провел немало приятных минут! И вот теперь, когда я удостоил сей дом своего присутствия, ты бежишь прочь и помышляешь о том, как изгнать меня из дома сего! Ты, святой! Ты, пророк! Ты, поэт!
Я почувствовал себя так, будто меня поставили перед чистым, неподкупным зеркалом, и я увидел себя в нем лжецом, болтуном, трусом и клятвопреступником. Это было больно, это было мучительно и ужасно, но то, что в это мгновение разрушалось во мне, содрогалось и корчилось от боли, было достойно разрушения и гибели.
Я торопливо и решительно попрощался со всеми и поспешил обратно в город, оставив на столе свое недопитое вино и недоеденный бутерброд. Всю дорогу меня терзал почти невыносимый страх, что за это время могло приключиться какое-нибудь несчастье: вспыхнул пожар или, может быть, беспомощный Боппи просто упал со стула и теперь лежит на полу и стонет от боли, а может быть, уже и вовсе мертв. Я видел его неподвижное тело; мне казалось, будто я стою рядом и читаю в глазах калеки безмолвный упрек.
Совсем запыхавшись, я миновал границу города, добрался до дома и бросился со всех ног вверх по лестнице, и только потом мне пришло в голову, что дверь заперта, а ключ у хозяев. Но страх мой тотчас же прошел, ибо, не успев еще достичь двери, я услышал изнутри пение. Это было странное ощущение. С бьющимся сердцем, едва не задыхаясь после стремительной ходьбы, я стоял на темной лестничной площадке, слушал пение запертого на замок калеки и медленно приходил в себя. Тихим голосом, мягко и немного жалобно пел он народную песню «Цветик алый, цветик белый». Я знал, что он давно уже не пел, и был тронут этой маленькой тайной, став свидетелем одной из его тихих, незатейливых