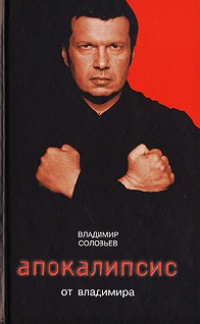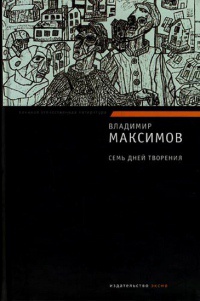— З-зачем все это, п-почему именно ты? — шептала ему на ухо Мария.
«Почему я?» — спросил себя и он сам. Необъятность этого вопроса накрыла его, как волной. Там, на даче у Генерала, все произошло так неожиданно и быстро, показалось настолько нелогичным, что он отреагировал подсознательно, на уровне инстинкта. На обратном пути в город, пока он еле тащился по шоссе, Боян попытался осмыслить свое решение, а точнее, найти ему оправдание.
Демобилизовавшись из армии, благодаря связям своего дяди, он уехал учиться в Москву, во ВГИК, изучать мастерство оператора. Но уже во втором семестре понял, что ошибся в выборе профессии, что рассуждать с глубокомысленным видом о кино и делать это самое кино — вещи совершенно разные. Он снял несколько безликих, затянутых учебных короткометражек, вызвавших насмешку однокурсников и смущенные улыбки преподавателей. Но в кругу однокашников Боян был душой компании, научился бренчать на гитаре и хрипеть под Высоцкого, хлестал водку и угощал друзей, покупал дубленки в Болгарии и продавал их в Москве. К нему прилипла кличка «Боян Дубленка». Закрутил любовь с двумя блондинистыми Татьянами, похожими друг на друга, как матрешки, на четверном курсе захороводился с одной кубинкой с умопомрачительной фигурой, словно вырезанной резцом скульптора из черного дерева. В постели она была ненасытна, кусалась и царапалась, и по иронии судьбы тоже звалась Татьяной. Жизнь в Москве у него была пестрой и беззаботной, но за те четыре года Боян осознал свою незначительность, возненавидел слово «бездарность», запах кинопленки стал его угнетать, а от шума мувиолы — аппарата для монтажа звукозаписи — его клонило в сон.
Институт Боян окончил с отличием и с полным омерзением к себе. Вернувшись в Болгарию, он долгое время делал вид, что ищет работу, но не переступил порога Студии документальных фильмов. За два месяца до инсульта и смерти его дядя позвонил генералу Ковачеву, с которым они партизанили в молодости, и пристроил племянника в МВД. Обрекая его на добровольное безличное подчинение, судьба одновременно и наказала его, и поощрила, уготовав ему низкое звание, но солидную зарплату; работу в милиции, но непыльную и далекую от доносов и провокаций. Монотонная служба была неинтересной, но работал Боян в самой консервативной системе, гарантировавшей ему выход на пенсию в чине майора или подполковника. Да, он отказался от своих амбиций и иллюзий, но устроился в жизни. Познакомился с Марией, его тронула ее заикающаяся доверчивость, а когда родилась их первая дочь, он понял, что любит жену.
Когда он принес новенькую военную форму домой и, надев ее, глянул в зеркало, то просто плюнул в свое отражение — ведь отражение не узнает себя в зеркальном образе — и бросил пить. Потекла ровная спокойная жизнь, исполненная уверенности в завтрашнем дне. Но Бояна не покидало тягостное чувство, что он живет не своей жизнью, что в последующие годы с ним уже ничего никогда не произойдет, словно время остановилось, и свою жизнь он уже прожил. Люди вокруг него просто существовали, откладывали что-то «на черный день», но это были мертвые деньги, на них нечего было купить, они хранили их в сберегательной кассе, копя проценты, чтобы в необозримом будущем приобрести квартиру в панельном доме или машину; все были сыты и одеты и именно поэтому не склонны к сопротивлению. Они рассказывали друг другу острые политические анекдоты, но куда важнее для всех было, что в ЦУМе выбросили итальянские сапоги. Отдых на море был гарантирован, но почти невозможно было съездить в соседнюю Грецию. В стране строилось много и масштабно, но непродуктивно. Государство было богато, но распределение — унизительно централизовано. Одаренные и честолюбивые трудяги получали столько же, сколько ленивые неумехи. Неподвижное, какое-то заболоченное время походило на газету «Работническо дело», в которой все события были «исторические», хоть ни на что не влияли. Несколько раз Боян ловил себя на мысли, что испытывает почти истерическую тоску по кино, и не потому, что он сожалел о своем выборе, а потому, что в кино хоть что-то происходило.
Перестройку он воспринял довольно хладнокровно, даже расчетливо, со смешанным чувством. Жизнь в Советском Союзе научила его, что когда там официально о чем-то твердят, то подтекст и подлинный смысл нужно искать в другом. В перестройке он чувствовал угрозу своей стабильности и в то же время жадно читал «Огонек» и «Новый мир», ему хотелось участвовать в чем-то новом, хотелось рискнуть. Это слово укоренилось в его сознании, и он вдруг осознал свое былое стремление, неудовлетворенную жажду, которая и предопределила его решение на даче у Генерала. Боян уже разменял пятый десяток, начал лысеть, а вот рисковать ему в жизни еще не доводилось. «Случайный риск… — подумал тогда Боян, — но ведь случайность — второе имя Бога!»
Наконец, Невене надоели купающиеся бегемоты, и они вышли на улицу. Чистый холодный воздух вскружил ему голову Дочка побежала на детскую площадку кататься с горки, а он, купив в киоске два стаканчика кофе, сел с Марией на скамейку, накрыл ее полой своего плаща и прижал к себе.
— М-мне с-страшно, — тихо сказала она.
— Я себе не принадлежу, — ответил он.
— У тебя прекрасные дети, дом, я, наконец… я тебя никогда не брошу.
— Я знаю.
— Ну, почему они выбрали именно тебя? Почему?
— Случайность — второе имя Бога, — смиренно ответил он.
— Разве ты не понимаешь, они втянули тебя во что-то ужасное, во что-то преступное?
— Мир меняется, мир уже не тот, что был прежде… похоже, теперь никто не знает, что преступно, а что законно.
— Но кому все это нужно? — она погладила его по небритой щеке. — Кому?
— Болгарии! — ответил он и закурил «Мальборо».
__________________________
Входная дверь хлопнула, заставив меня вздрогнуть и вырвав из дремы. На улице было темно и все так же чертовски жарко, сумрак в гостиной сгустил воздух, придав ему насыщенный цвет вишневого компота. Я ждал Катарину, но у нее не было ключа, значит, пришла Вероника. Ее каблучки застучали по коридору, это была походка очень занятой деловой женщины, вынужденной кормить и обихаживать всю семью. «Бедная Вероника», — грустно подумал я. Она заглянула в гостиную и включила свет, ее осунувшееся лицо привычно выразило удивление.
— Чем занимаешься? — я почувствовал, что она раздражена, в ней весь день копилось это раздражение — в коридорах Свободного университета, на квартирах ее тупых учеников, в издательстве «Бард», где она униженно выпрашивала аванс за неоконченный перевод. В желтой блузке и черной юбке она была похожа на осу.
— Смотрю в потолок, — миролюбиво ответил я.
— Хоть бы посуду помыл!
— Я работал, — соврал я, кивнув на включенный компьютер, — только что оторвался от этого придурочного агрегата.
— Развлекаешься своим романом? — желчно поинтересовалась она. Ее ирония не достигла цели, но осталась в гостиной, как третье действующее лицо.
— Я обдумываю…
— Ах, ты еще обдумываешь! Сам ты придурочный агрегат, а не компьютер. Достал меня уже твой неначатый… — она все же не посмела сказать «бездарный» — …роман! Возьми себя в руки, нахлебник!